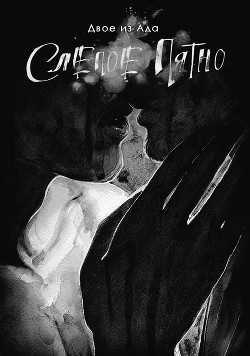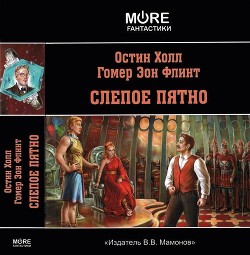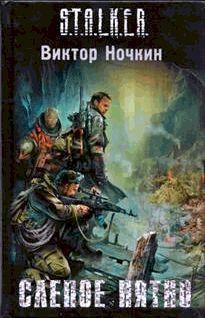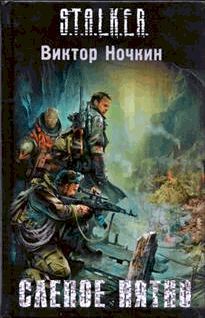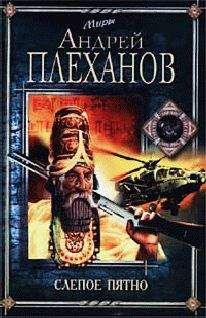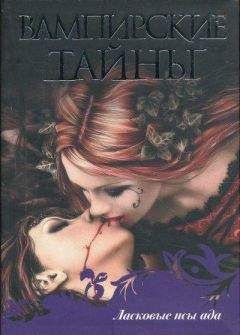— Когда ты сказал, что отчим думал, что ваша мать вас ему подарила… Что это значит? — глухо спросил Антон.
— Это значит, что если ты не нужен собственной матери, кому ты вообще нужен? — Лев зачесал светлые волосы назад, невесело усмехнувшись. — Она это сделала обманом. Кажется, за нас он получил какую-то часть ее денег. За то, что усыновил нас. Потом она пропала в Америке. Вроде как, сменила имя… Вот он и считал, что купил нас. «Подарила». «Подбросила». «Ваши жизни ничего не стоят, если бы не я»… Сейчас, оглядываясь назад, я с ним в чем-то согласен.
— Это не так, — поморщился Горячев, а во взгляде его на секунду мелькнула настоящая ненависть. И стихла. — Любая жизнь… — он не договорил. Запнулся. Но вот — снова хлебнул чаю и погладил собственные руки — от плеч и до запястий, — будто сбросил какой-то груз или, вернее, снял с себя что-то. Броню, которая делала позу жесткой, а лицо — каменным. Антон привалился спиной к стене, потер лоб. В блуждающем взгляде вспыхивали и угасали злость, жалость, усталость, вина, боль, еще что-то… Горячев осматривал стены, шкафчики и потолок, микроволновку и грязную посуду в раковине, стеклянные часы над дверью, плотные темные жалюзи и россыпь магнитов на холодильнике — словно пытался зацепиться за знакомое и старое, найти свой якорь, найти ответ и план. Но всякий раз находил только Льва, который со всей своей наглостью сел в самом центре картины. Все линии, которые проводил Антон в пространстве, пересекались на нем. — Мне очень жаль. Правда жаль. И я… Ни хуя не понимаю, что мне делать, Лев. Я и так не знал… Но решил хоть что-то, чтобы все стало, как раньше. Это так не работает. Ничего не получается… А еще когда ты там сутками на улице… Ты мне, блядь, все сердце вытрахал…
Точка. Взгляд Горячева остановился на Льве. Он не винил — это было не обвинение. Скорее, вопрос. Что теперь? Как правильно? Чего ты хочешь сам? Богданов, казалось, только сейчас выдохнул. Все, он пробил стальной занавес, сломал пропасть непонимания между ними, и все существо обратилось к Антону. Лев положил раскрытые ладони на стол, протянул их к Горячеву поближе. Улыбнулся.
— Дай руки, — он пошевелил пальцами. — Пожалуйста.
Антон замешкался. Он посмотрел на Льва беспокойно, но все же решился — выправился на своем месте. Пальцы коснулись пальцев. У Горячева они были теплыми и влажными, расслабленными, но все же мелко подрагивали. Прокрались чуть дальше, легли в ямочки, в которых пересекались десятки значащих что-то — или не значащих ничего — линий. Чем крепче, чем полнее становилось это сближение, тем больше меркли глаза напротив под тенью ресниц. Когда Антон отдался рукам Богданова целиком, веки его сомкнулись. Лев обнимал чужие пальцы своими, собирал их в ладонях, нежно гладил запястья. Казалось, что время остановилось, мир померк и в нем ничего не осталось, кроме них двоих. Лев сначала не спешил, иногда останавливался и исступленно кружил подушечкой большого пальца по коже. Затем оплетал змеей, складывал руки в замки, раскрывал обратно. Все было дозволено. И было в этом единении нечто такое, за что Лев продал бы весь белый свет.
— Не сопротивляйся мне, — выдохнул Богданов и потянул Антона на себя, чтобы, прежде чем тот опомнится, ткнуться измученной от дум головой в руки. Их разделял стол и бояться Горячеву было нечего. Лев прижался лбом, губами, горячо выдохнул и закрыл глаза. — Прости за вытраханное сердце. Мне тоже казалось, что ты там веселишься без меня, было обидно. И за все, что было, тоже прости… За все это. Ты мне нужен, Антон, — Лев крепче стиснул руки Горячева, будто кто-то или что-то могло отобрать у него единственное в жизни сокровище. — Я все для тебя сделаю. Мне тоже жаль, что я превратил лучшее, что есть в моей жизни, в цирк одного актера. Изуродовал. Избил. Замучил. А ты все стерпел…
И снова — тишина. Богданов слышал только одно: как часто Горячев дышит. Чувствовал только одно: как бьется пульс в его жилах. Антон не отстранялся, но странное напряжение поселилось в его оживших, разогревшихся, сильных руках. Он вдруг двинулся. Провел кончиками пальцев по вискам. Погладил, потрепал ладонями затылок. Высвободившись, зашел на шею, пролез под ворот. Снова наружу — на плечи. На макушку — разметал волосы. Звякнули чашки, когда Горячев поднялся из-за стола. Но Богданов никак не успел бы даже повернуться; он уже был захвачен, лицо обдало запахом мокрой одежды, почти выветрившегося древесного парфюма… Антон стоял над ним. Настолько близко и в таком ракурсе он не был рядом никогда. Лев преисполнился тревоги, страха и приятного физического волнения. В голове билась одна мысль: «Переборщил». Богданов попытался подняться, чтобы ретироваться с места преступления, поехать домой, обдумать все. А проще — сбежать. Но ему не дали сделать и шага в сторону. Табурет улетел из-под ног одним верным пинком, уступая дорогу Горячеву. Отчаянный взгляд его мигнул раз совсем близко. И скрылся.
Антон должен был растерзать Богданова. Возможно, избить — теперь уже без свидетелей. Возможно, выговорить, что еще тот вытрахал, помимо сердца, воспользовавшись незаслуженным доверием. Однако ярость Горячева в этот раз закончилась на ударе ладони в стену, а следом за ней был только несмелый, дрожащий, как первый вспыхнувший от случайной искры язычок огня, поцелуй. Антон прижался к губам Льва и замер на секунду. Пробовал. Ждал. Оторвался — приник еще раз. Простое осознание упало камнем в желудке: целовался Богданов впервые за долгие годы. Губы ломило от той крохи ласки, которая внезапно обрушилась на него. Многолетнее одиночество стиралось под этим прикосновением, исчезало под пальцами Антона, испепелялось его словами… Богданов хотел больше, но не знал, как взять это, когда брать и сколько может унести. Даже то, что ему доставалось, простреливало колени, и невозможно становилось удерживаться на ногах. Он ожил, смял губы Антона в поцелуе, опустив руки на талию и медленно прижав к себе. «Мое» — читалось в напряженном движении ладони по спине. То же прорастало в объятии, когда рука Льва стиснула мокрую футболку.
Внезапный стук в дверь оглушил Богданова. Он оторвался, прислушался. Настойчивый звук повторился.
— Ждешь кого-то? — спросил Лев, машинально прижав Антона еще немного. От его одежды становилось холодно.
— Нет. Может, соседи или впаривать что-то пришли…
Горячев вздохнул и, выпутавшись из рук Льва, выпрыгнул к двери, а кухню прикрыл. Будто это пришел участковый, а хозяин квартиры прятал у себя живой груз запрещенки… Богданов видел сквозь узкий проем, что Антон сперва надолго прилип к глазку. И все же через несколько секунд, ничего не спрашивая, открыл. За его спиной никого не было видно — точно так же собственную квартиру Горячев заслонил грудью.
— Что ты здесь?.. Блядь…
Антону на плечо легла дрожащая рука. Тот, кто был за ним, покачнулся, схватившись за Горячева. Лев вынырнул из укрытия, чтобы лучше слышать.
— Привет, Горячев, — сказал незваный гость и Лев узнал в голосе Романа. Тот стоял неровно, а на его лицо легли неестественные тени. — Я тоже тебя терпеть не могу, но мне плохо…
— Ебаный в рот… — выдохнул Антон. Дверь открылась шире. Он отошел, пропуская Романа внутрь. — Что с тобой сделали? Что происходит?
Сисадмин, шатаясь и придерживая стены, чтобы они не рухнули на него, переступил порог квартиры. Его лицо больше походило на картину взбесившегося импрессиониста; черные разводы украшали бледную кожу, желтые и зеленые пятна напоминали о более старых ударах, левый глаз заплыл и, хоть и был скрыт темной челкой, вызывал неприятное ощущение в животе. В голове Богданова истерично заметалась мысль, что за дверью находится тот, кто разукрасил Романа. В три прыжка он преодолел расстояние между кухней и входной дверью, захлопнул ее, вырвав из рук Антона и аккуратно посмотрев в глазок — никого не было. Тишина. Пролет пустой. Облава? Его ждут на улице?
— С-с-с-с-с-сука, и этот уебок тут, — выплюнул Роман, а единственный чистый глаз налился кровью от ненависти. — Из-за тебя, урода, все, Богданов. Антон, вот нахуя ты… Надо было увольняться, идиот, когда я еще пропал… Кретин…