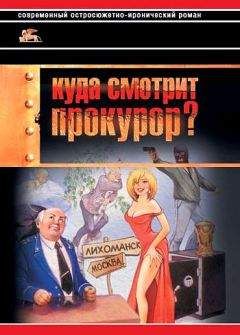Гонсо с изумлением посмотрел на этого загадочного двойника наркома Ежова. В нем и впрямь была какая-то тайна. Потому как он непостижимым образом говорил о том, о чем сам Гонсо едва успевал подумать.
– А ведь я с этих сапог отпечаток снял, – вдруг сообщил Федя, почесывая нос. – И с ботинок тоже. На всякий случай – вдруг пригодятся.
Он достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, с обеих сторон которого красовались четкие следы от обуви. Странно, подумал Герард Гаврилович, почему провидение выбрало своим адептом этого лузгающего семечки и мечтающего «колоть людей как дрова» подростка. Но ведь явно выбрало! И через него подбрасывает следы и улики.
– Ну, что теперь будем делать? – неожиданно для самого себя спросил Гонсо.
И Федя ответил:
– Айда на речку!
Лихоманка действительно сильно шибала в нос. Герард Гаврилович от нетерпения чуть в воду не полез, но Федя его остановил. И благоразумно предложил погулять для начала по бережку, поглядеть, нет ли где нужных им следов. Между прочим, по дороге Федя забежал к каким-то знакомым и позаимствовал у них грабли – не руками же по дну шарить – и резиновые сапоги.
И следы нашлись – около старых полусгнивших мостков, которыми давно уже никто не пользовался. Ступить на них было действительно страшно. Герард Гаврилович мигом разулся, влез в сапоги, взял в руки грабли. Войдя в воду насколько можно дальше, он принялся старательно шарить по дну граблями. Федя сидел на берегу, жевал травинку и следил за ним с чуть заметной улыбкой взрослого человека, наблюдающего возню маленьких детей.
Через полчаса безуспешных поисков, когда вспотевший от натуги Гонсо уже начал подумывать о том, что придется вызывать какую-то технику на подмогу, Федя крикнул:
– Вы под корягой, под корягой пограбьте!
Гонсо завел грабли как можно дальше под корягу и вдруг понял, что они что-то зацепили…
Об успехе следствия по делу об ограблении церкви Туз рассказывал всем с нескрываемым удовольствием, порой даже перебарщивая с похвалами в адрес Герарда Гавриловича. В результате тот же Драмоедов стал смотреть на Гонсо с нескрываемой завистью и злобой, хотя на поздравления тоже не скупился.
Но Герарду Гавриловичу было не до поздравлений. Во-первых, он был занят экспертизами. Делал все так, чтобы комар носа в деле не подточил. Во-вторых, проводил обыски, очные ставки и прочие следственные действия. А в-третьих, размышлял о задержанном Модесте Владиленовиче Замотаеве.
Замотаев, улыбчивый, приятный мужчина лет сорока, с ласковыми глазами, тихим приятным голосом, манерами воспитанного человека, вел себя странно. И при задержании, и потом как бы наблюдал за всем происходящим со стороны. Следствию не помогал, но на все вопросы отвечал, правда подчеркнуто лаконично. О чем-то он все время размышлял, и Герарду Гавриловичу стало казаться, что очень важно узнать, о чем Замотаев все время думает с тихой улыбкой, глядя куда-то вдаль своими голубыми глазами. Мысль эта не давала ему покоя. И он поведал о ней Тузу, но тот только рукой махнул: давай-давай, заканчивай дело, куй, пока горячо! Тем более что обыск у Замотаева ничего не дал и больше ничего подозрительного у него не нашли.
И вдруг известие – Замотаев сам просится на допрос, ибо намерен сообщить нечто важное для следствия. Герард Гаврилович распорядился немедленно доставить его к себе.
– Ну, Модест Владиленович, слушаю вас внимательно, – с нетерпением сказал он, когда Замотаев был доставлен.
– Вот интересно, что вы хотите от меня услышать? – печально улыбнулся обвиняемый. – Есть вещи, которые я не понимаю: логики политиков, теории относительности Эйнштейна, затеянной приватизации… Не понимаю еще – почему те, кто вошли от народа во власть, возвращаются к нему только по приговору суда. Видимо, не понимаю еще и хода мысли следователя моего.
– А вы собираетесь говорить только то, что я хочу услышать? Ну, что ж, я вам скажу, что я хочу от вас услышать. Видите ли, Модест Владиленович, я подозреваю, что кража в церкви не единственное ваше преступление. Более того, уверен, что вы совершали и другие правонарушения.
– Вот как, – вяло удивился Замотаев. – И почему же вы так решили?
– Ну, хотя бы потому, что человек, который так тщательно готовит свое преступление, вряд ли делает это в первый раз…
– Ну, тоже мне подготовка, – улыбнулся Замотаев. – Всего-то побрил голову, отрастил бородку, надел перчатки и чужие башмаки.
– Эх, Модест Владиленович, кого вы хотели этим обмануть?! Недооцениваете вы развитие науки. Человека сегодня можно идентифицировать по отпечаткам не только уха, но и носа, щеки, подбородка, лба, губ. Его можно обнаружить по запаху, по голосу…
– Что вы говорите!
– А отпечатки пальцев теперь снимают даже с мокрых поверхностей. Я уже не говорю про молекулярно-генетическую экспертизу. Степень вероятности ошибки ДНК-анализа – один к десяти миллиардам! Вы представляете?
– Честно? Не представляю. Но пусть все так. Все так, но… Скажите, что, из-за этого люди стали меньше красть? Ведь нет. Что за странная картина – ваши методы все изощреннее, а люди крадут не меньше, хотя когда еще было им сказано: не укради. Ах, Герард Гаврилович, об одном мы все время забываем.
– О чем же это?
– Забываем, человек – существо трагическое. А смысл трагичности не только в неизбежности его гибели и прекращения жизни, а в неразрешимости противоречий, которые составляют суть человека…
Герард Гаврилович в философский диспут втягиваться не собирался, но видел, что Замотаеву надо поговорить, и не стал ему мешать. Но в какой-то момент не выдержал и прервал его:
– Вы лучше мне объясните, Модест Владиленович, почему вы с чаши даже отпечатков пальцев не стерли? Ведь не было бы их там – и доказать вашу причастность было бы сложнее… Нет, мы бы, конечно, все равно доказали… Но почему вы проявили вдруг такую беспечность? Не понимаю.
– Герард Гаврилович, я вам скажу, но поверите ли вы мне? Тут речь о материях тонких, психологических… Ну, извольте. Отпечатки я не уничтожил потому, что решил проверить судьбу. Всего-навсего. Ведь я понимал, какой грех совершил, утащив панагиар из святого храма. И потому решил: если Господь меня решил покарать, то штуковину эту все равно найдут, и меня вместе с ней. А от кары небесной разве можно укрыться, следы заметая?
– Раз вы понимали, какое преступление замыслили, зачем же вы вообще на это пошли?
– Я ведь шел и не знал – украду или не украду? Честное слово, не знал! И если бы этот остолоп староста не оставил меня одного, я бы точно ничего не взял. Но когда он ушел, я уже не мог остановиться. Вот видите, от какой мелочи зависит судьба человека? Был бы староста рядом со мной – остался бы я чист перед законом и Господом.
– Значит, без сторожа под боком мы не можем? Ответственность на себя возложить не способны?
– Ну почему же, не всегда. Но ведь сказано: погибели предшествует гордость и падению надменность. Вбил себе в голову, что могу все сделать так, что меня не найдут. И думал, что все рассчитал. Я ведь намеревался все сделать так, чтобы староста ничего не заметил. А когда хватятся, думал, то поздно будет. И потом, служители культа не любят мусор из церквей выносить. Там у них столько тайн хранится, что посторонним делать нечего. Они только совсем в крайних случаях к милиции обращаются. Зачем им вопросы: откуда это у вас да кому принадлежало?
– Ну, вы от жизни отстали! Это в советские времена они опасались, а сейчас…
– Наверное, вы правы, хотя… Увы, они – люди, всего лишь люди. И потому тоже вожделеют и жаждут. И страшатся.
– Модест Владиленович, а вы сами, часом, в семинарии не обучались?
– Нет, Герард Гаврилович, я другие университеты кончал. Хотите, расскажу?
Уж очень хотелось Замотаеву поведать о своей жизни, и это видел Гонсо, потому останавливать его не стал.
Оказалось, вырос Модест Замотаев в семье сильно пьющего учителя пения, отсюда и нелепое имя, из-за которого он претерпел в детские годы много насмешек и унижений. Однажды темной и холодной осенью мальчик Модест, старавшийся появляться дома как можно реже, оказался у церкви, где его приметил и пригрел священник – отец Василий. Он проявил к Модесту такое искреннее участие, что мальчик проводил в церкви все свободное от школы время, постигая заодно таинства службы и библейских текстов. Отец Василий был человеком необъятной доброты и необыкновенного обаяния. Но через несколько лет в храме его сменил отец Антоний, и Модест увидел своими глазами, что священник может быть и сластолюбцем. В душе и мыслях Модеста, где отец Василий без устали сеял доброе и светлое, отец Антоний совершил страшный погром и поистине вверг его душу в сомнения. С тех пор Модест, встречаясь со служителями церкви, всегда первым делом постановлял для себя, кто перед ним – отец Василий или отец Антоний. И хотя таких Антониев он больше никогда не встречал, тем не менее сей образ часто бередил его память.