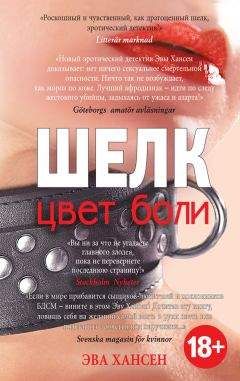Раздался металлический стук в дверь, и инспектор Хьюитт вошел в камеру.
— Простите, полковник де Люс, — сказал он. — Старший констебль, как вы, без сомнения, понимаете, заботится, чтобы закон соблюдался в полной мере. Я дал вам столько времени, сколько мог, не рискуя своей шкурой.
Отец печально кивнул.
— Пойдем, Флавия, — велел инспектор, — я отвезу тебя домой.
— Я не могу уехать домой, — возразила я. — Кто-то спер мой велосипед. Я бы хотела написать заявление.
— Твой велосипед у меня на заднем сиденье.
— Вы его уже нашли? — спросила я. — Слава богу! «Глэдис» в целости и сохранности!
— Он и не исчезал, — сказал он. — Я увидел, как ты паркуешься перед входом, и попросил констебля Глоссопа убрать его в целях безопасности.
— Чтобы я не могла сбежать?
Отец поднял бровь от такого нахальства, но ничего не сказал.
— Отчасти да, — признал инспектор Хьюитт, — но главным образом потому, что до сих пор льет как из ведра, а ехать до Букшоу надо в гору и далеко.
Я молча обняла отца, он, хотя оставался неподатливым, как дуб, не возражал.
— Постарайся быть хорошей девочкой, Флавия, — сказал он.
Постараться быть хорошей девочкой? Это все, о чем он может думать? Было очевидно, что наша подводная лодка всплыла на поверхность, ее обитатели выбрались из глубин и вся магия осталась внизу.
— Сделаю, что смогу, — сказала я, отворачиваясь. — Очень постараюсь.
— Ты не должна быть слишком суровой с отцом, понимаешь, — сказал инспектор Хьюитт, притормозив, чтобы не пропустить поворот на Бишоп-Лейси. Я глянула на него, его лицо освещалось мягким светом приборной панели «воксхолла». Дворники, как черные косы, скребли по стеклу под аккомпанемент вспышек молний.
— Вы на самом деле верите, что он убил Горация Бонепенни? — поинтересовалась я.
До его ответа прошла вечность, и, когда он пришел, в нем послышалась тяжелая печаль.
— Кто еще там был, Флавия? — сказал он.
— Я, — ответила я. — …например.
Инспектор Хьюитт включил стеклообогреватель, чтобы испарить влагу, осевшую на лобовом стекле от нашего дыхания.
— Ты же не думаешь, что я поверю в эту историю с борьбой и больным сердцем? Потому что я не верю. Не это убило Горация Бонепенни.
— Значит, это торт! — выпалила я с неожиданным вдохновением. — Он был отравлен тортом!
— Это ты отравила торт? — спросил он, сдерживая ухмылку.
— Нет, — созналась я. — Жаль, что я этого не сделала.
— Это был совершенно обычный торт, — сказал инспектор. — У меня уже есть данные анализа.
Совершенно обычный торт? Это самая высокая похвала, которой когда-либо удостаивались сладости миссис Мюллет.
— Ты права, — продолжил он, — Бонепенни действительно угостился кусочком торта за несколько часов до смерти. Но как ты узнала?
— Кто, кроме незнакомца, будет есть эту гадость? — спросила я, пытаясь за насмешкой скрыть внезапное осознание своей ошибки: Бонепенни вовсе не был отравлен тортом миссис Мюллет. Это была ребяческая идея. — Простите, — извинилась я. — Просто вырвалось. Вы, наверное, считаете меня полной дурочкой.
Инспектор Хьюитт не отвечал слишком долго. Наконец он сказал:
— «Если на корочке торта сладость, кого волнует сердцевина?» Моя бабушка так говаривала, — добавил он.
— Что это значит? — спросила я.
— Это значит… О, мы уже в Букшоу. Тебя, наверное, обыскались.
— О, — сказала Офелия этим своим беззаботным тоном. — Тебя не было? Мы не заметили, правда, Даф?
Дафна закатила глаза. Она была явно испугана, но пыталась не подавать виду.
— Правда, — пробормотала она и снова уткнулась в «Холодный дом» Диккенса. Как бы там ни было, Даффи читала быстро.
Если бы они спросили, я бы с радостью рассказала им о встрече с отцом, но они не спросили. Если они и печалились из-за его неприятностей, они не собирались подпускать меня к себе, это было ясно. Фели, Даффи и я были как три личинки в трех отдельных коконах, и иногда я удивлялась, почему так. Чарльз Дарвин однажды написал, что самая яростная борьба за выживание происходит внутри племени, и как пятый из шести детей — имея трех старших сестер, — он явно знал, о чем говорит.
Для меня это был вопрос элементарной химии: я знала, что субстанция может растворяться веществами химически сходной структуры. Этому не было рационального объяснения: просто таковы пути Природы.
День был долгим, и мои глаза закрывались.
— Я, пожалуй, пойду в кровать, — сказала я. — Спокойной ночи, Фели. Спокойной ночи, Даффи.
Моя попытка общительности была встречена молчанием и хрюканьем. Когда я поднималась по лестнице, внезапно из ниоткуда пролетом выше материализовался Доггер с подсвечником, который мог быть прикуплен на распродаже имущества в Мэндерли.
— Полковник де Люс? — прошептал он.
— Он в порядке, Доггер, — сказала я.
Доггер тревожно кивнул, и каждый из нас отправился в свою берлогу.
Школа Грейминстер, распростершись, дремала на солнце, словно ей снилась былая слава. Это место было точно таким же, как я представляла: величественные старые здания, аккуратные зеленые лужайки, спускавшиеся к неторопливой реке, и просторные пустые площадки для игр, на которых, казалось, слышалось безмолвное эхо матчей по крикету, участники которых были давно мертвы.
Я прислонила «Глэдис» к дереву на боковой аллее, по которой я сюда въехала. За зеленой изгородью стоял трактор, лениво гудя, его водителя нигде не было видно.
Голоса мальчиков из хора плыли над лужайками из капеллы. Несмотря на яркий солнечный свет, они пели:
Мягко гаснет свет дневной.
Прочь скользит он надо мной.[46]
Я недолго постояла, слушая, пока они внезапно не умолкли. Затем, после паузы, снова вступил орган, сварливо, и певцы вернулись к началу гимна.
Я медленно шла по траве того места, которое, я уверена, отец именовал «двором», высокие пустые окна школы холодно смотрели на меня, и у меня вдруг возникло странное чувство, какое, должно быть, бывает у насекомого, когда его кладут под микроскоп — ощущение нависшей невидимой линзы — и что-то странное со светом.
За исключением одного школьника, куда-то бежавшего, и двух преподавателей в мантиях, прогуливавшихся и разговаривавших, сблизив головы, широкие лужайки и извилистые дорожки Грейминстера пустовали под глубоким синим небом. Все это место казалось слегка нереальным, словно сильно увеличенный агфаколоровский[47] кадр — из тех, что можно видеть в книгах вроде «Живописной Британии».
Это нагромождение известняка на восточной стороне двора — то, где башня с часами, — должно быть, Энсон-Хаус, подумала я, старая отцовская берлога.
Приблизившись, я подняла руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Видимо, отсюда сверху, с этих зубцов и черепицы, мистер Твайнинг рухнул и разбился о камни; об эти древние булыжники, лежащие не далее чем в ста футах от того места, где я стояла.
Я пошла по траве, чтобы рассмотреть их получше.
К моему разочарованию, кровавых пятен там не было. Естественно, их и не могло быть после стольких лет. Их смыли сразу, как только позволили приличия, — скорее всего, до того, как искалеченное тело мистера Твайнинга обрело подобие покоя.
Этим булыжникам было нечего рассказать, кроме того, что их на протяжении двухсот лет постоянно топтали привилегированные ноги. Окружавшая каменные стены Энсон-Хауса дорожка была шириной едва ли шесть футов.
Я запрокинула голову и уставилась на башню. С этого угла она поднималась в головокружительную высь — сплошная каменная стена, заканчивавшаяся высоко-высоко надо мной филигранью изящной декоративной каменной кладки, где пухлые белые облака, лениво дрейфующие над парапетом, создавали своеобразное ощущение, будто здание начинает крениться… падает… обрушивается прямо на меня. От этой иллюзии меня затошнило, и пришлось отвернуться.
Стертые каменные ступени гостеприимно вели от каменной дорожки сквозь арку входа к двойным дверям. Слева от меня была комнатка привратника, его обитатель разговаривал по телефону. Он даже не посмотрел в мою сторону, когда я скользнула внутрь.
Холодный сумрачный коридор простирался передо мной, казалось, в бесконечность, и я двинулась по нему, осторожно переставляя ноги, чтобы не шаркать по полу.
С обеих сторон длинная галерея улыбающихся лиц — некоторые из них принадлежали школьникам, некоторые преподавателям — уходила в темноту, каждый портрет изображал грейминстерца, отдавшего жизнь за страну, и под каждым была покрытая черным лаком табличка. «Чтобы другие жили», — гласила позолоченная надпись. В конце коридора, отдельно от прочих, были фотографии трех мальчиков, имена которых были выгравированы на маленьких медных прямоугольниках: «Пропали без вести в бою».