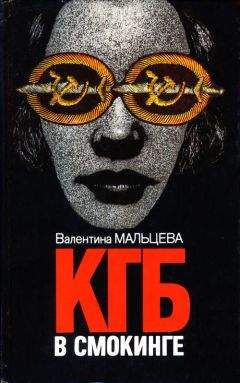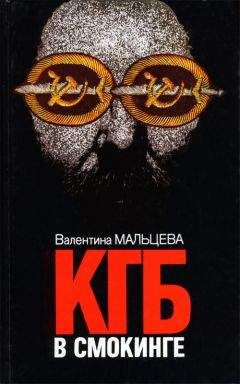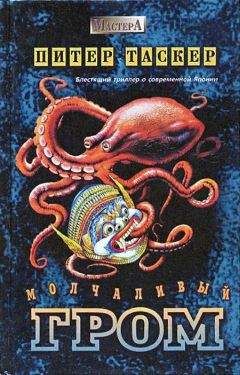По дорожному щиту я догадалась о цели нашего путешествия: мы въезжали в Женеву. Он привез меня к очень красивому восьмиэтажному зданию в старинном стиле, на фронтоне которого сверкающим неоном было выписано: «Angleterre».
— Я буду жить в этом отеле? — это были мои первые слова за всю многочасовую дорогу из Вены в Женеву.
— Да, Вэл.
— С тобой?
Он молча покачал головой.
— Долго?
— До завтра.
— До завтра, — механически повторила я, не понимая сути сказанного.
— Тебе здесь будет уютно, дорогая, — он наклонился и легонько прижал меня к себе. — В этом отеле когда-то останавливались Байрон и Ференц Лист…
— Будет о чем рассказать в Москве, — пробормотала я и толкнула тяжелую, резную дверь.
В очень красивом номере, обставленным с несколько тяжеловатым вкусом, я провела худшие восемнадцать часов моей жизни. Одна, наедине со своими мыслями и без всякой надежды на будущее.
Юджин появился на следующий день, после двух. На нем была все та же куртка, в которой он встречал меня в Вене, а глаза от недосыпания стали совсем маленькие и все время слезились.
— Где ты был?
— Работал.
— Почему ты не пришел вчера? Почему оставил меня ночью одну?
— Я не мог.
— Я тебе верю.
— Спасибо.
— Мы успеем пообедать вместе?
— Не думаю… — он взглянул на часы. — Через несколько минут нам надо уходить.
— Туда?
— Туда…
Мы стояли у широкого окна «Angleterre», повернувшись друг к другу — одетые, какие-то потерянные, готовые по первому же сигналу спуститься на лифте вниз. Он держал мое мокрое лицо в ладонях и тихо, почти шепотом, повторял:
— Не плачь. Пожалуйста, Вэл, не плачь… Ну не плачь же!..
— Я боюсь, Юджин, мне очень страшно.
Господи, как хотелось мне в те минуты заставить себя быть сильной, спокойной, как мечтала я проститься с ним с улыбкой настоящей женщины, — красивой, гордой, уверенной в себе, ироничной даже на эшафоте, даже когда она растерзана, когда проиграла все, что только можно проиграть, когда все простыни пошли на белые флаги капитуляции, кроме одной, единственной, на которой она любила и продолжала любить до последнего вздоха… Но из моего пересохшего от напряжения горла исторгалось лишь бессвязное бормотание:
— Я знаю, знаю, ты веришь, что все кончится хорошо… Ты должен в это верить, конечно… Я знаю, что ты все сделаешь для этого… Прости меня за мое поведение в машине… Я дура… Понимаешь, милый, мне нельзя к ним… Вообще нельзя… Они меня сгноят. Они уже сгноили меня, превратили в ничто, размазали по стене… Только ты… Только ты, миленький мой… Ты единственный, ради кого стоит цепляться за эту поганую жизнь. А сейчас и тебя не будет… Зачем же мне все это? Скажи, Юджин, зачем?! Мы с тобой одни, как ты этого не понимаешь? Только я и ты, ты и я… Все остальные — враги… И мои поганцы с партбилетами, и твои снобы с сигарами… Аналитики… Наблюдатели… Боссы… Председатели… Почему они жируют, командуют, повелевают, а страдаем мы? Почему, милый?! Кто мы для них? Пешки, камешки, человеческий материал. Они нами играют, манипулируют, жертвуют… Так давай уйдем от них! Прямо сейчас, а? Спрячемся где-нибудь… Нам ведь не много надо — только бы вместе!.. Ну?! Что ты молчишь, Юджин? Разве я не права?
— Ты права, — прошептал он. — Ты права, Вэл. Мы уйдем от них, обещаю тебе!
— Когда?
— Пусть все кончится…
— Это никогда не кончится! — крикнула я. — Ни-ког-да! Пока существуют интересы национальной и государственной безопасности, никому не будет дела до двух людей из плоти и крови, которым наплевать на все стратегические тайны, на все их секреты, на всю это херню собачью, которая слезинки моей не стоит! Мы ведь мечтаем только об одном: быть вместе. Без претензий, без жеманства, без политического или идеологического гарнира — просто быть вместе. И они не оставят нас в покое. Хорошо, пусть ты прав, пусть меня отобьют, вернут, вытащат из-под ножа этого очкастого упыря… А что потом? Мы уедем с тобой в Америку, а там меня будет курировать уже ЦРУ, да? Президент вместо генерального секретаря? Директор вместо председателя? Демократическая партия вместо коммунистической?..
Коротко звякнул телефон. Юджин снял трубку и буквально через секунду, не сказав ни слова, положил ее на рычаг.
— Пора? — я вытерла слезы и попыталась изобразить на лице улыбку.
— Пора, Вэл…
Под широким бетонным козырьком отеля стояла длинная американская машина с затемненными стеклами. Рослый мужчина в коротком полупальто и в зеркальных солнцезащитных очках сдержанно кивнул Юджину, потом распахнул заднюю дверцу и негромко сказал по-английски:
— Прошу вас, мэм!
Сквозь тонированные стекла автомобиля я смотрела на уменьшающуюся фигуру Юджина в одном свитере, одиноко примостившуюся у бетонной опоры козырька, и молча глотала слезы. В такой ситуации нормальные женщины утешают себя тем, что, несмотря ни на что, их любят. Меня же это обстоятельство просто убивало. Лучше бы меня ненавидели…
По чуть слышному сопению за спиной я почувствовала, что рядом со мной кто-то сидит. Обернувшись, я увидела… Матвея Тополева собственной персоной в довольно мятом сером костюме явно не советского производства — и даже поразилась тому, какой спокойной была моя первая реакция на этого двухзвездочного вампира.
— Кого я вижу?! Никак Валентина Васильевна, разрази меня Господь?! — на изумленном лице Матвея Тополева, изрядно, кстати, пополневшем со времени нашей последней встречи в Волендаме, без словаря читались одновременно мальчишеский восторг и первородное злорадство классического советского стукача. — Похоже, нас вместе поставили в угол?..
Я находилась в состоянии, когда любой разговор с кем бы то ни было являлся для меня сущей пыткой: голова была занята совсем другими мыслями, лицо Юджина, склонившееся надо мной при прощании, было почему-то неживым, словно и не лицо это, а фотография в рамке, на вечную память… Понятно, что вынужденный разговор с незадачливым гением советской разведки представлялся мне форменным кошмаром. Я даже не подумала о причинах, побудивших кого-то из шефов Юджина посадить меня рядом с этим мерзавцем. Единственное, чего я хотела, — это чтобы он заткнул пасть и молчал. По возможности — весь остаток жизни. Но как это сделать, не вступая в разговор, я не знала. А Матвей тем временем чуть ли не приплясывал:
— Похоже, нас меняют, Валентина Васильевна?
— Похоже, — пробормотала я, глядя в окно.
— Это замечательно! Я знал, что мы с тобой еще встретимся, тварь. Уверен был. И нам будет о чем поговорить там, в Москве. Немного терпения, Валентина Васильевна, буквально несколько часов…
— Ты можешь не прожить и нескольких минут, Матвей, — тихо предупредила я, не отрывая глаз от тонированного окна.
— Что?..
— На руках у тебя браслеты, — я говорила медленно, наливаясь звериной яростью. — А мои руки, урод, свободны. Знаешь, что может сделать женщина своими руками, когда встречает такую мразь, как ты? — Я резко повернулась к Тополеву и со всей силой, на какую только была способна, сжала двумя пальцами его угреватый, жирный нос.
Матвей взвыл.
Краем глаза я успела заметить, что моя агрессия не прошла мимо внимания сидевшего впереди парня в водолазке. Однако он никак не реагировал на происходившее за его спиной.
— Пока мы едем, Матвеюшка, — продолжала я шепотом, — я успею вот этими руками оторвать твои поганые яйца! Смотри, какие у меня острые ногти! Смотри мне в глаза, поганец! Ты веришь, что я сумею это сделать? Несмотря на все омерзение, которое ты вызываешь во мне, сумею! Веришь?! Отвечай, еб твою мать!
Тополев взвыл еще пронзительнее и энергично закивал головой.
— Тогда молчи, сучий потрох! Молчи, выродок! Не буди во мне зверя! Сиди очень тихо, не шевелясь, и помни: вякнешь хоть полслова — оторву с корнем! Намертво! И уже ничего у тебя там не вырастет. Я предупреждала, Матвей: тебе нельзя размножаться! Если таких, как ты и твой педерастичный шеф, будет слишком много, человечество погибнет. И не просто погибнет, а задохнется в дерьме… — Я отпустила тополевский нос и вытерла пальцы о его брюки. — А ведь я все-таки дожила до того, что тебя использовали, а?..
На этой кульминационной точке моего монолога машина остановилась…
34
Женева. Железнодорожный вокзал Корнаван
18 января 1978 года
Увы, меня так никто и не посвятил толком в технические детали обмена профессиональными шпионами, в тесной компании которых я так неожиданно очутилась. Впрочем, всерьез я этим и не интересовалась. В те сутки, что мы провели с Юджином в Праге, он старался вообще не касаться этой больной темы и, стоило мне только заикнуться о предстоящей операции, моментально переводил разговор. Уже тогда я понимала, что он имеет резон: что бы он ни сказал, какие бы веские аргументы в пользу предстоящего обмена ни приводил, я обязательно усмотрела бы в его объяснениях некий второй план и обрушила бы на его многострадальную голову все упреки и обвинения, накопившиеся во мне за полтора месяца скитаний по белу свету. И только во время совместного с Бержераком полета в Вену, даже не из любопытства, а в профилактических целях (чтобы обладатель самого длинного в США и Канаде носа, чего доброго, не уснул и не начал храпеть) я предприняла вялую попытку разговорить так и не состоявшегося отца моего гипотетического недоношенного ребенка, но наткнулась на такое идиотское выражение лица, что моментально сообразила: гримировка являлась только внеурочным хобби моего очередного провожатого. А вообще-то он был таким же цээрушником, как и мой ненаглядный…