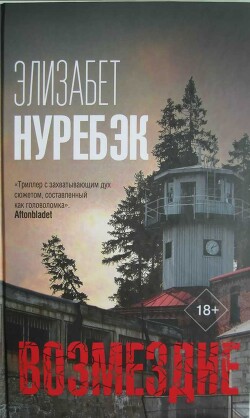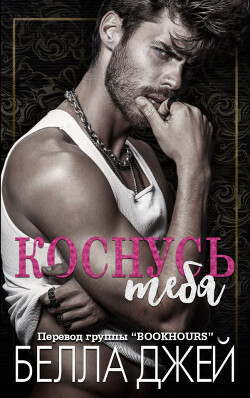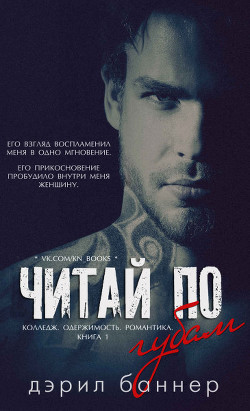— Зачем ты взяла с собой нож? — спрашивает он.
— Я его не брала.
— А как иначе он оказался здесь? Ты сказала, что он лежал в кухне в большом доме?
— Точно не помню. Мне так кажется.
— Ты хотела пригрозить Симону?
— Нет.
— У тебя возникали мысли о том, чтобы его убить?
— Никогда.
— Симон Хюсс больно ранил тебя, не так ли, — продолжает Юхан Фошель. — Об этом писали во всех газетах и журналах. Наверняка ты расстроилась и разозлилась, когда пошли слухи. Ненавидела мужа за то, что он подверг тебя всему этому.
— Не настолько, чтобы совершить то, что вы мне приписываете.
— На твоем месте я бы очень рассердился, — вступает Тони Будин, словно подсказывая мне слова признания. — Я был бы вне себя от ярости.
— Я не убивала Симона, — отвечаю я и сажусь на кровати. — Я этого не делала. Никогда бы так не поступила, потому что по-прежнему любила его. Здесь был кто-то еще.
Я повторяю это снова и снова. Повторяю до тех пор, пока Лукас Франке не прерывает допрос. Он и другие выходят из комнаты, остается только Тони Будин. Он смотрит на меня так пристально, что мне становится не по себе. Я улыбаюсь ему — инстинктивно, чтобы показать: я не опасна.
* * *
— Ты так и не призналась, — произносит Адриана таким тоном и с таким выражением лица, что я не знаю, как это понимать. Она гордится? Сомневается? Не знаю.
— Это ничегошеньки не изменило, — отвечаю я. — С таким же успехом я могла бы и признаться.
В камеру просовывает голову охранник.
— Андерссон, — говорит он. — Пора запирать двери.
Прихватив с собой книгу, я иду впереди него в сторону камеры. Ложусь на кровать, слышу, как поворачивается ключ в замке и как охранник дергает дверь, проверяя, заперта ли она.
Вместо того, чтобы читать, я размышляю над тем, что только что рассказала Адриане. Как и на полицейском допросе, я изложила ей все в мельчайших деталях. Она молча слушала, пока я описывала ей сыры из Португалии и вяленую ветчину, вегетарианские хинкали и сказочные медовые трюфели. Шампанское и дорогие вина. Моих замечательных друзей. Тесс, которая произнесла речь, рассмешив всех до колик. Тепло Алекса. Завистливые взгляды Симона и его тягу ко мне.
Удивительное дело: одни воспоминания отчетливы, словно все это произошло вчера, а другие кажутся такими давними. Можно подумать, что это происходило с кем-то другим.
Что я помнила и чего не помнила — сыграло решающую роль во время суда. Правдивость моих утверждений о провалах в памяти была поставлена под сомнение исследователем памяти, приглашенным в качестве эксперта-свидетеля. Те воспоминания, которые у меня сохранились, были, по ее мнению, отретушированы. Я раз за разом повторяла одни и те же моменты, выбирая одни и те же детали и излагая их каждый раз одинаково. Песни, которые звучали, когда мы танцевали, еду, которую мы ели, как я легла на постель в гостевом домике, как заснула и проснулась вся в крови. Зато я совершенно не помнила ничего про остальные часы, проведенные на даче.
Она долго рассказывала о том, как разные области мозга аккумулируют различные виды информации, как ассоциативно работает память. Обращаясь к судье и присяжным, она заявила, что многие воспоминания на самом деле представляют из себя реконструкции, сделанные задним числом. Таким образом мозг догадывается о том, чего мы на самом деле не поняли. Заполняет пробелы. Ассоциации необязательно возникают осознанно, нередко это происходит автоматически. Научные исследования и улики скажут свое, поскольку я молчу, произнесла она.
Лукас Франке, в свою очередь, вызвал другого ученого, который утверждал, что в провалах памяти нет ничего странного или необычного. При сильной травме или шоке мозг таким образом защищается, а «блокаут» под влиянием большого количества алкоголя встречается довольно часто. В заключение своей речи он показал в качестве кривой, сколько мы помним относительно шкалы времени. Уже через двадцать минут после события мы забываем сорок два процента информации о нем. Через час — более шестидесяти процентов.
Через месяц с трудом можем вспомнить двадцать.
На это прокурор возразил, что в моем случае это не имеет значения. Каждый раз я осознанно пропускала некоторые часы, помимо специфического момента, о котором не могла сказать ничего вразумительного. Речь тут идет не о том, что в марте я помнила меньше, чем в сентябре. Я не изменяла свою историю ни на миллиметр — стало быть, она сфабрикована.
Еще до начала процесса мой адвокат сказал мне: поскольку я не могу дать объяснение смерти Симона или привести факты, подтверждающие мою версию о другом злоумышленнике, улики будут особенно весомы. В этом он тоже оказался прав. Улики определили все;
Чем закончилась ночь на восемнадцатое сентября — об этом в заключительных выступлениях было приведено две совершенно разные истории. Одну рассказала прокурор, вторую — мой адвокат.
В первой я представлялась как взбешенная, жаждущая мести женщина, начисто лишенная совести. Прокурор напомнила об имевшем место неоправданном насилии. Она была уверена: я осознаю, что совершила, но отказываюсь в этом признаваться. Я не сотрудничала с полицией, давая понять, что меня надо пожалеть, потому что Симон изменил мне, а моя мама умерла.
— Но Линда Андерссон вовсе не жертва, — продолжала она. — Неужели женщины могут безнаказанно совершать тяжкие преступления, потому что «их жалко»? Я утверждаю, что нет. Симон Хюсс мертв, а Линда Андерссон — тот человек, который его убил. За это ее следует приговорить к такому же сроку, к какому приговорили бы мужчину.
В рассказе Лукаса Франка я была сломленной женщиной, пытающейся собрать воедино остатки своей жизни на глазах у общественности. Он заявил: в моем прошлом нет ничего, что указывало бы на способность совершить такое преступление. Я стабильный человек с прекрасными социальными навыками и большим кругом общения, имеющий постоянную работу и жилье. Я только что познакомилась с другим, я была влюблена. В такой ситуации мне вовсе незачем было убивать будущего бывшего мужа.
Вывод адвоката гласил: не доказано «свыше всяких сомнений», что это я совершила преступление. Слишком много вопросов, на которые нет ответа, в то время как настоящий убийца разгуливает на свободе, заключил он.
Поскольку я не представила собственную версию с какими-либо фактами или деталями, помимо тех, которые говорили против меня, судье и присяжным предстояло решить, какую из этих двух историй они считают более правдоподобной. Поэтому я и нахожусь в Бископсберге.
В ранние утренние часы в корпусе царит особая тишина. Обычно я просыпаюсь рано, писаю в горшок, а потом выливаю все в раковину у двери. Так поступаю и в то утро понедельника, потом ополаскиваю руки и лицо, бросаю быстрый взгляд в зеркало из полированного металла и по старой привычке провожу руками по голове — и тут вспоминаю, что моих длинных волос больше нет. Изуродованная женщина с суровыми глазами преследует меня — кажется, ей нравится меня дразнить. Если бы она могла говорить, наверняка стала бы насмехаться надо мной из-за того, что я считаю ее отвратительной. Если бы она спросила, боюсь ли я ее, я ответила бы «нет». Но это была бы ложь. Отвернувшись, я одеваюсь. Заправляю постель и жду, что придут охранники и осмотрят ее, как делают последние пять лет.
По вторникам я сдаю в стирку белье и получаю чистое, в среду сижу во второй половине дня в библиотеке и читаю. Товары из киоска заказываю в четверг и забираю в пятницу. По субботам и воскресеньям сижу в корпусе, в основном в камере, смотрю телевизор или читаю.
Выходные для многих еще мучительнее, чем рабочие дни, потому что время тянется медленно, а те, кто ждет посещения, нетерпеливы и не находят себе места. Потом настроение еще хуже — пустота от расставания или несбывшиеся ожидания.
Когда после всего этого снова наступает понедельник, я жду момента, чтобы пойти после завтрака на работу. Не потому, что она кажется мне приятной и интересной — наоборот. Она убивает время. Это способ притвориться, что в твоих действиях есть смысл, что у тебя есть какая-то жизнь. Я ходила строем, меня запирали и выпускали, обыскивали, я поступала, как мне говорили. Каждый час, каждый день. Всегда. Сегодня, когда я оделась, чтобы отправиться на первый рабочий день на фабрике с тех пор, как меня атаковали, все это кажется еще более бессмысленным, чем обычно.