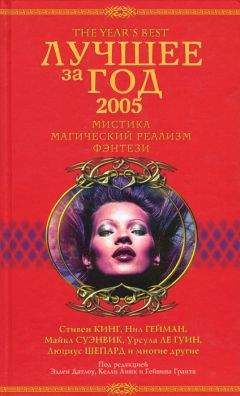Потом они занимаются любовью в фургоне, наплевав на даты, графики и температуру, — просто потому, что им хочется.
Старый дом из голубоватого песчаника крепко стоит на своем каменном фундаменте, чего нельзя сказать обо всех его пристройках: они завалены гниющими обломками, в каждой комнате пол уходит из-под ног под своим особым углом. В кухне раковина наполнена водой, поверхность которой далека от горизонтальной. Примерно каждые десять лет или около того к дому что-нибудь добавляли: в 1890-е — флигель, в 1920-е — кухню, в 1950-е — спальню, в 1960-е — ванную, в 1970-е — кирпичное патио.
— Нам придется все снести и построить заново, — говорит он, — все, кроме самого дома.
— Сплошная история, — отзывается она, поглаживая рукой каменные глыбы. — Надо бы сходить в библиотеку, в местное историческое общество: вдруг им что-то известно о наших развалинах.
Но ранним утром, когда в дверь стучат (это доставили контейнер для мусора), она просыпается, чувствуя себя бодрой и отдохнувшей, и напрочь забывает о библиотеке: ведь можно с головой погрузиться в веселье, снова стать грязной и потной. Во дворе они играют в тигров, добывают мусор среди джунглей из сорняков: старые покрышки, половина велосипеда, сломанные кирпичи, заржавленная решетка для барбекю. В одном углу в траве обнаруживается целый закопанный клад: старинная ванна на изогнутых ножках. Находка тут же переезжает на задний двор и водружается там, прямо посредине (ведь куда-то ее надо было поставить). Она как раз опрокидывает нагруженную тачку в контейнер, когда мимо по улице проходит пожилая женщина, толкающая перед собой тележку из супермаркета. Старушка смотрит на нее, на дом и начинает смеяться — слабое кудахтанье, в котором не слышно особой радости.
— Не поймаешь, не поймаешь… меня за такими делами не поймаешь!
Бух! Содержимое тачки ударяется о дно контейнера, звук на секунду отвлекает ее от странных возгласов. Когда она поднимает взгляд, старушки уже нет.
Остаток дня смазывается, пролетает в трудах. Они делают перерыв на кофе с печеньем, грязные руки оставляют на кружках темные пятна. При этом оба счастливы, словно малыши, копающиеся в песочнице. Позже вечером они отдирают от пола луковую шелуху заплесневелого ковра, потом слой линолеума, потом старую желтую, словно моча, газету, такую хрупкую, что она рассыпается в руках.
Она останавливается, опираясь на развороченные половицы.
— Я что-то слышу. Тсс!
— Что? А я ничего не слышу.
— Как будто кто-то царапается, пытается выбраться наружу. — Наклонив голову, она осторожно ступает по вздыбленным доскам пола, следуя за тонкой ниточкой звука. Шаги ее ног, обутых в бландстоуновские сапоги, порождают эхо. Идти на цыпочках не очень-то и получается: ведь это неимоверно трудно делать в сапогах.
— Осторожнее, — предупреждает он, увидев, как она исчезает в дверном проеме, ведущем во флигель. — Там в центре пол просверлен.
Скрип, громкий треск и вскрик. Он спешит туда и находит ее по пояс в прогнившем дереве.
— О боже! Ты в порядке?
— Я-то да, но вот пол… — отвечает она и морщит нос. — Пахнет так, словно здесь живет бродячая кошка. Скорее даже кот. Я, наверное, именно его и слышала.
— Тут хватит места для целого винного погреба, — замечает он, оценивающе разглядывая зияющее пространство. Между остатками пола и сухой потрескавшейся глиной внизу скрывается небольшая пещера, заваленная всяким мусором, ломаным кирпичом, бутылками и ржавыми консервными банками. Он проверяет балки — они целы. — На, хватайся за руку и вылезай.
Но она вглядывается во что-то маленькое, белое, сверкающее в темноте, нагибается, смахивает с предмета слой истлевшего в порошок дерева и снова кричит. Это уже не тот тихий мышиный писк удивления, нет, это крик из кошмарного сна, который все не замолкает.
Он мчится в ближайший винный магазин и покупает бутылку дешевого бренди. Поспешно споласкивает кофейную кружку, наливает спиртного на два пальца, протягивает ей. Она пьет, давится, снова пьет.
— Прости, — раздается наконец. — Ты видел? Как будто ко мне из темноты тянулась крошечная белая ручка. Такая маленькая, словно у зародыша в бутылочке.
Она допивает оставшееся в кружке бренди, встает:
— Ну, как говорится, надо встречаться со своими страхами лицом к лицу.
Однако когда они подходят к дыре в полу, твердо устоять на ногах становится все сложнее.
— Давай я! — говорит он, спускается вниз, наклоняется, а затем протягивает ей левую руку. На лице удивленное выражение, брови подняты.
— Милая, это просто кукла. Видишь?
— Оставь ее. Хватит с нас на сегодня, пошли, сходим в видеопрокат.
Следующим утром встать с кровати почти невозможно: все тело ноет после непривычной физической нагрузки, но она поднимается и прямо в пижаме, превозмогая боль, плетется в дом, добирается до флигеля; поморщившись, залезает в провал.
В соседней комнате слышны его шаги:
— Эй! Принеси мне что-нибудь из инструментов, и я начну копать, ладно? Пожалуйста…
Это фарфоровая кукла, и ее, по всей видимости, здесь кто-то похоронил. Грязь затвердела, словно цемент, совершенно непонятно, как ее счистить и можно ли использовать что-либо жестче полотенца — не разобьется ли игрушка. Спустя несколько часов ладони у нее покрыты мозолями, но в руках кукла, изображающая ребенка, целиком отлитая из фарфора: голова, ноги, руки и туловище. В ванной комнате, стены которой заклеены отслаивающимися обоями в стиле оп-арт,[31] в раковине она смывает с находки остатки грязи.
— Сплошная история, — мурлычет она себе под нос, — история страны в целом или персональная история одной маленькой девочки — ведь наверняка с ней играла маленькая девочка. Любопытно, сколько лет этой вещи.
Любопытство заставляет ее вытереть руки, надеть чистую одежду и отправиться в большую городскую библиотеку. Позже она возвращается оттуда с пачкой ксероксов и, едва завидя его на парадном крыльце (он выметает с веранды многолетний слой перепревших листьев), начинает рассказывать, сгорая от нетерпения.
— Эти куклы делали где-то между тысяча восемьсот пятидесятым и тысяча девятьсот четырнадцатым годами; получается, что она того же периода, что и передняя часть дома. Они назывались «Окоченевшие Шарлотты» или «Окоченевшие Чарли». Была такая популярная песенка «Прекрасная Шарлотта» про девушку, которая отправилась покататься на санях в метель. Она хотела покрасоваться в своем вечернем платье и поэтому отказалась взять с собой одеяло. Через девятнадцать четверостиший ее ждет весьма печальный конец:
В свои ладони руку он берет…
О боже! Холодна, как лед;
Срывает пелерину он с чела,
Чтоб увидать, как на лице холодный луч звезды блеснет.
Быстрее в освещенный зал
Безжизненное тело он несет,
Окоченевший труп, и с губ ее
Уж больше никогда ни звука не сорвется, о Шарлотт.
— Это про нее?
— Да.
— Чудненько. Не уверен, что смог бы покорно выслушать все двадцать с лишним четверостиший этого вот произведения.
Позади них с улицы раздается скрежет колесиков тележки о мостовую, тоненький холодный смех:
— Не поймаешь, не поймаешь… меня за такими делами не поймаешь!
Она оборачивается, твердо решив попытаться вести себя по-добрососедски.
— За какими делами не поймаешь? Вы ведь тоже наверняка подметаете свою веранду?
Старушка спешит дальше, не останавливаясь. Она что-то выкрикивает через плечо, эдакая парфянская стрела, выпущенная напоследок, но проезжающий мимо грузовик почти заглушает ее слова. И вот ее уже нет.
— Ты разобрала, что она там говорила?
— Точно не уверена. Вроде: «Вам не поймать меня за подметанием дома ужасов»?
— А я расслышал «дом» и еще какое-то бормотание. Местная сумасшедшая, по всей видимости. Ладно, пока ты занималась изысканиями, я проверил полы и думаю, их придется менять. Но это еще не все: там целая куча таких же замороженных Чарли. Я нашел их прямо под настилом.
Она стоит на коленях перед раковиной и щеточкой для ногтей соскребает грязь с новой куклы.
— Они совершенно одинаковые.
— Как будто из одной формы отлиты, — отзывается он, заглядывая через плечо.
— Видимо, эта модель была популярна, массовое производство. Но зачем их хоронить?
— Наверное, у какой-нибудь маленькой девочки был брат-садист.
Она складывает кукол на коврик, для просушки.
— Ой, у этой не хватает ступни. Пойду-ка посмотрю, может, удастся найти.
Она отправляется на поиски, а он берется за кувалду и принимается за бетонную дорожку в переднем дворике. Постепенно работа вытесняет остальные мысли, все звуки сводятся к собственному сопению и стуку молотка, уже невозможно помнить ни о чем — ни о ней, ни о времени. Когда он поднимает голову, солнце уже садится, а она стоит в дверном проеме. Даже в тусклом вечернем свете хорошо видно покрывающую ее пыль и грязь, отчетливо можно разглядеть смертельно бледное лицо.