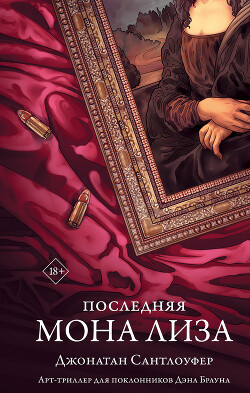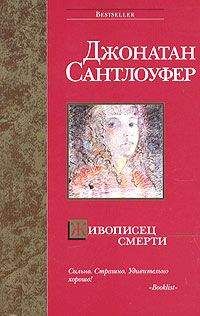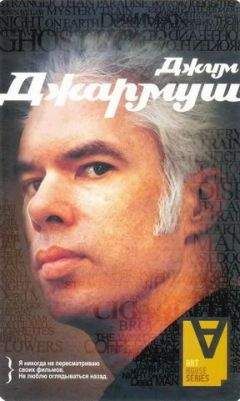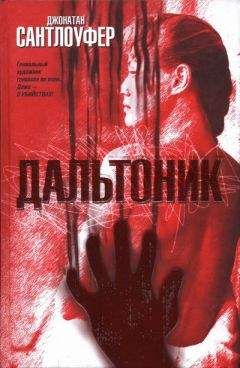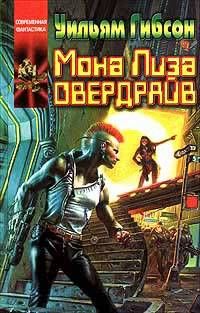Высокие каменные стены внутреннего двора казались вычищенными и отмытыми. Пока я их разглядывал, Валентина рассказала, что здание было построено в 1424 году для монашек-бенедиктинок, которые решили стать затворницами, и поэтому монастырь получил название Мурате, что значит «замурованный». Лишь в середине девятнадцатого века здание стало мужской тюрьмой и оставалось им до 1985 года. «В это время оно уже разрушалось и было переполнено, – рассказывала Валентина, – к тому же во время наводнения в шестьдесят шестом несколько заключенных утонули, и здесь был бунт!» Она гордилась тем, что ее организация боролась за то, чтобы эта тюрьма стала музеем, «свидетельством бесчеловечности», и проводила выставки, посвященные темной истории этого здания.
Затем она передала нас молодому экскурсоводу по имени Стефано.
Сначала Стефано стал показывать нам владения организации художников, но мне не терпелось увидеть саму тюрьму, и когда я признался в этом, он проводил нас в фойе, отпер там тяжелую цепь и повел вверх по узкой лестнице.
На ходу я вспоминал исповедь моего прадеда, как его после ареста и суда привезли в эту тюрьму, раздели, обыскали и отправили в холодный душ вместе с другими заключенными. Продрогшего и униженного, его привели в камеру, дверь за ним захлопнулась, с лязгом и скрежетом закрылись замки и засовы – все это было описано с душераздирающими подробностями. Медленно поднимаясь по ступенькам, я теперь видел эту тюрьму своими глазами – ведь она была уже вокруг меня, теснила и давила своими стенами, погружала во мрак, оставив лишь скудную толику света из окна наверху. Быстро шагавшие Марко и Стефано уже почти скрылись где-то впереди, и мне казалось, что современность и сто десять прошедших лет улетучились вместе с ними.
Лестничная площадка на первом этаже представляла собой учебный экспонат по эрозии: серая краска давно начала отваливаться со стен, обнажая каменную кладку, пол из диагонального камня красноватого цвета был истерт и выцвел. Погрузившись в прошлое, я представлял, как по этому коридору ведут моего прадеда, и вздрогнул, когда Стефано окликнул меня.
Мы поднялись еще на один лестничный пролет.
Здесь от самой лестничной площадки вел коридор с закругленным потолком, примерно семь метров в длину и два с половиной в ширину, с рядом тяжелых деревянных дверей. У одной из дверей я остановился: вырезанный по камню узор с отбитыми кусками, толстые железные петли, ржавая железная скоба размером десять на двенадцать дюймов держала засов, который, вставляясь в другую железную скобу, надежно запирал дверь. В середине двери находилось маленькое квадратное окошко, оно было закрыто и заперто. Такое же окошко в соседней двери было открыто, я заглянул в него, но там было слишком темно. Стефано показал мне на открытую дверь еще одной камеры дальше по коридору.
Но это была не камера. Это была клетка.
На миг я застыл на пороге, потом шагнул внутрь. И снова замер.
Нет умывальника. Нет туалета.
Мне вспомнился рассказ Винченцо о еженедельном коллективном мытье под холодным душем и описанные им «говночисты», как их звали, – люди, на которых возложили отвратительную обязанность опорожнять параши.
Это место больше напоминало подземелье, чем тюрьму, что-то в духе «Графа Монте-Кристо» – из-за своей жуткой реальности оно казалось ненастоящим, выдуманным. Я на всякий случай прикоснулся к стене – она была сырой и настолько холодной, что я содрогнулся. Стефано заметил, что тюрьма никогда не отапливалась, но сейчас в ней стало теплее, потому что из обжитого художниками первого этажа сюда поднимается теплый воздух.
Стефано и Марко вышли в коридор, и я остался один в камере. В памяти всплыли слова Винченцо: я считаю шаги, приставляя ступню к ступне, шесть шагов в ширину, девять в длину. Приставляя ступни пяткой к носку, я измерил камеру: все было в точности как он сказал, шесть на девять. Я словно очутился на его месте: он вот так же ходил из стороны в сторону, вперед-назад. Наверное, он сохранил рассудок только тем, что все время строил планы мести Вальфьерно и Шодрону. Я как бы переселился в него.
Я сел на каменный пол и, закрыв глаза, представил себе недели и месяцы, которые мой прадед провел в такой же клетке, описывая свою жизнь. Открыв глаза, я увидел маленькое зарешеченное окно, выходившее в коридор. Вскочив, словно меня толкнули, я схватился руками за прутья решетки. Мои руки, руки Винченцо. Сколько раз он вцеплялся руками в такие же прутья?
Стефано предложил мне посмотреть на этот коридор – узкий тоннель с заплесневелыми стенами и полом. Мне опять вспомнились слова из дневника Винченцо: есть одно зарешеченное окошко, только это не окно вовсе, оно выходит в узкий коридор, из которого охранники следят за нами.
Я представил себе патрулирующих охранников, вспомнил того из них, который дал Винченцо тетрадь и карандаши – маленькое доброе дело в этой адской дыре.
Там была еще одна открытая камера, точно такая же, как все остальные, только в ней были рисунки.
Когда я осмелился дотронуться до них, в мои пальцы словно ударила искра.
На одной стене был нарисован солдат в старинной форме, на другой нацарапано несколько линий, в которых я с большим трудом распознал женскую фигуру. В следующей камере тоже были рисунки: профиль современной женщины, а рядом – небольшая группа зданий средневекового типа. Рисунки были полузатертые и поблекшие, но вполне различимые. Насколько я понял, эти граффити создавались в разное время, их разделяли десятилетия, если не века. Вероятность, что какие-то из них сделал Винченцо, была ничтожной, и все же я представил себе, как он сидит на корточках у стены и вырезает рисунок заточенной палочкой. Рисунок как способ сохранить связь с миром, способ продержаться.
Упершись руками в холодный каменный пол за спиной, я сидел и смотрел на эти рисунки, погрузившись в размышления о своем прадедушке, о тех месяцах, которые он провел в одной из этих камер, похожих на клетки, о том, как ему удалось выжить и написать свою историю. Мне не просто хотелось знать, что было дальше, я хотел знать все об этом человеке, который вдруг стал для меня невероятно важен и дорог.
51
Когда мы встретились с Александрой за ужином, я еще не пришел в себя после посещения «Ле Мураты», как будто сам недавно отбыл тюремный срок. Выбранный ей ресторан не был дорогим и шикарным, а она, кажется, была в хорошем настроении. Она спросила, не отменил ли я свою поездку в Париж, я ответил, что нет; у меня была назначена встреча в Лувре, а кроме того, я запланировал еще один визит, неоговоренный.
Аликс сказала «хорошо», хотя и без особого энтузиазма. Я пообещал, что скоро вернусь, и она еще раз сказала «хорошо». Затем она стала расспрашивать, что за знакомый у меня в Париже, и я насочинял с три короба.
Десерт и кофе мы не стали брать. Мне хотелось поскорее уйти, но я не был уверен, что Александра согласится уйти вместе, и не решался это предложить, поэтому испытал облегчение, услышав ее вопрос:
– К тебе или ко мне?
– К тебе, – предложил я. – У меня просто помойка.
Она сказала, что ее это не смущает. А меня смущает, ответил я честно.
Александра жила на третьем этаже, в старом здании недалеко от Сан-Лоренцо. Квартира ее была симпатичной, но без особой роскоши, и меня это порадовало. Она провела для меня экскурсию по своей квартире, похваставшись голубой плиткой на полу кухни и маленьким балконом с кованым ограждением. Мы вышли на балкон и несколько минут любовались видом на ярко освещенный Кафедральный собор на фоне темного неба. Потом я притянул ее к себе. Аликс ответила неожиданно страстным, едва ли не отчаянным поцелуем. Мы долго стояли так, практически не отрываясь друг от друга, а потом она повела меня в спальню.
Секс был таким же страстным. Я, как мог, пытался продлить его, но не удержался, и все кончилось слишком быстро. Потом мы лежали на кровати молча. Александра встала, чтобы взять бокал вина, и когда я смотрел, как она уходит, мне казалось, что она вот-вот сорвется на бег.