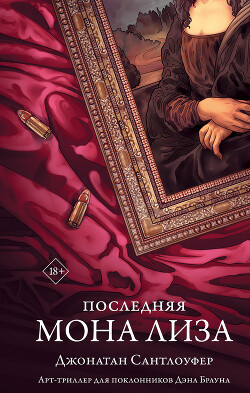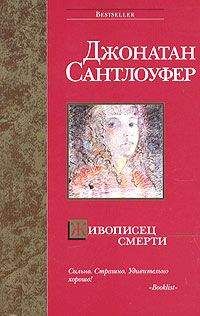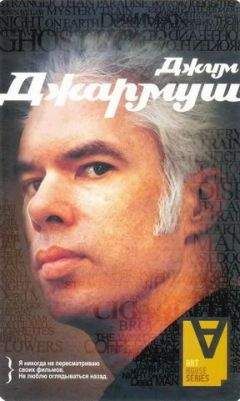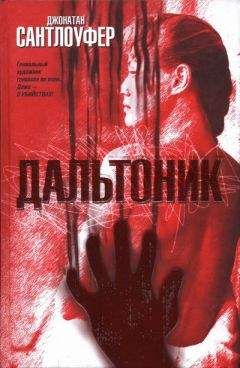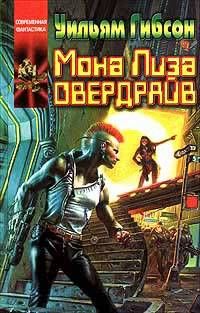На столике у кровати стояла фотография в рамочке: маленькая девочка, очевидно, сама Александра, а рядом ее мать, которую я узнал по портрету в медальоне.
– Это ты с мамой? Хорошая фотография, – заметил я, когда Аликс вернулась.
Она кивнула, чуть улыбнувшись. Видя, что она хочет что-то сказать, но не решается, я спросил, в чем проблема.
– Мама, она… больна. То есть не болеет, а… – она замолчала и встряхнула головой. – Да ладно… Не бери в голову.
– Ладно так ладно, – сказал я, – ты не обязана рассказывать, если не хочется.
– Хочется, – произнесла она, помолчав, потом сделала глоток вина – бокал дрожал в ее руке – и заговорила быстро, словно боялась, что если не выпалит это немедленно, то не скажет никогда.
– Она всегда была ранимой, но доброй и замечательной. Врачи сначала не могли понять, что с ней – депрессия или паническая атака. А потом поставили диагноз – ранняя деменция. Беда в том, что ей уже не станет лучше, только хуже.
– Сочувствую. А что отец?
– Он… исчез с горизонта после развода. По-моему, я тебе говорила. – Аликс перевела дыхание. – Сейчас она в хорошей клинике. Это дорого стоит, но ничего не поделаешь. Ей всего пятьдесят шесть – и это плохо… потому что становится все хуже. Какое-то время я пыталась ухаживать за ней сама, привезла ее в свою квартиру, даже наняла сиделку, но это оказалось мне не по силам. Мама по полночи не спала, плакала или бродила как неприкаянная, и я не спала вместе с ней, старалась успокоить, а потом весь день сама не могла работать.
В ее глазах стояли слезы. Я обнял ее, молча, чтобы дать ей выговориться.
– После ее второй попытки самоубийства – сначала таблетками, потом бритвой, – она судорожно вдохнула, – доктора посоветовали поместить ее куда-нибудь, где за ней будет постоянный присмотр. Просто ничего другого…
Александра снова глубоко вздохнула.
– Извини…
– Тебе не в чем себя винить.
– Стыдно просто. – Она взяла со столика салфетку и приложила к глазам. – Зачем я гружу тебя всем этим?
– А ты не стыдись. Будь уверена, мне можно рассказывать все.
– Вообще-то, я не плакса, – сказала она, шмыгая. – Не понимаю, что это со мной.
– А мне покажи мультик про Бэмби – через три минуты буду рыдать как ребенок.
– Так я и поверила! – Она все-таки улыбнулась, потом провела пальцем по моей татуировке. – Суровый мистер Килл Ван Калл.
– Не такой уж и суровый. – Я обнял ее. Мне действительно хотелось утешить ее, заботиться о ней, оберегать. Я сочувствовал ей, жалел ее мать, но мне было приятно, что Аликс мне доверилась. До сих пор я не знал, какой бывает любовь, и впервые в жизни подумал, что это, должно быть, она – и мне не хотелось лишиться этого чувства, не хотелось потерять Александру. Я готов был сказать: я помогу тебе, когда мы вернемся в Нью-Йорк. Помогу выхаживать мать, помогу во всем. Но я побоялся ее отпугнуть, и поэтому сказал только: «Все будет хорошо».
В ту ночь Александра спала очень беспокойно, и я несколько раз просыпался, когда она сильно вздрагивала или начинала что-то бормотать. Очевидно, ее мучили дурные сны. Я гладил ее лоб, приговаривая: «ш-ш» – и она на какое-то время успокаивалась – до следующего кошмара.
Утром я встал рано, стараясь не разбудить Аликс, и уже одевшись и собравшись, перед уходом поцеловал ее на прощанье.
– Куда ты уходишь? – спросила она, приподняв голову с подушки.
– В Париж, помнишь? Вернусь через пару дней.
– А-а… хорошо. – Она притянула меня к себе и поцеловала еще раз, сильно и страстно, потом резко оттолкнула и, крикнув: «Иди!» – закрылась одеялом и уткнулась лицом в подушку.
52
Александра быстро оделась и начала застилать постель. Взяв подушку, она поднесла ее к лицу: наволочка сохранила запах Люка. Она была и рада, что он ушел, и в то же время это было невыносимо. Черт возьми, она на такое не подписывалась. Отложив подушку, она взяла со столика фотографию, которую повсюду возила с собой. Здесь она была с мамой – такой, какой она ее помнила, с той мамой, которая помнила ее.
Почему она так разговорилась вчера вечером? Искала сочувствия, оправдания, надеялась на спасение? Благородный рыцарь Люк Перроне, а она – в роли попавшей в беду девицы? Но если кого-то и нужно выручать из беды, то скорее его, чем ее.
Поставив фотографию обратно на столик, она подумала, что иногда приходится делать что-то неправильное по отношению к людям, которых любишь; приходится делать, как бы тяжело это ни было, просто потому что не видишь другого выхода.
53
Утреннее небо над Парижем было аспидно-серым, хотя сам город – так прекрасен, как мне и представлялось. Добравшись на такси из аэропорта, я решил как следует посмотреть город, сдал сумку на хранение и теперь прогуливался по предместью Сен-Жермен, историческому району побеленных зданий с коваными железными балконами, модных бутиков и элитных картинных галерей.
Найдя симпатичный ресторанчик, я устроился у барной стойки из красного дерева, поел омлета с жареной картошкой и выпил желанного кофе. После ночи, проведенной с метавшейся во сне Аликс, я чувствовал усталость и тревогу. Был ли причиной кошмаров недуг ее матери – или что-то другое, невысказанное, причиняло ей такую боль? Должен сказать, мне понравилась пылкость ее прощального поцелуя, но не понравилось, как она меня потом оттолкнула. Она что, все еще играет в кошки-мышки? Если так, то эта игра, судя по всему, доставляет ей не больше удовольствия, чем мне.
До встречи в Лувре оставалось еще два часа, и я решил побродить по улицам и полюбоваться городом. Кофе помог, и я бодро прошелся по территории Дома инвалидов, комплексе зданий французских военных. Золотой купол на главном корпусе умудрялся сверкать даже в пасмурную погоду. Пройдя по нескольким обсаженным деревьями улицам, я остановился в восхищении у большого многоярусного театра, который оказался знаменитой «Комеди Франсез». Я готов был бродить по улицам Парижа весь день, но приближалось время назначенной встречи. К Лувру я подходил с волнением и трепетом: наконец-то я воочию увижу «Мону Лизу». Смогу ли я распознать тайный знак Шодрона, даже если он попадется мне на глаза?
Куратор отдела живописи эпохи Возрождения Алан Жанжамбр, казалось, сошел с картины Эль Греко: темные волосы, угловатые черты лица, короткая острая бородка. Он поверил, что я пишу научную работу о картине Леонардо, и согласился помочь, но явно торопился и вел себя так, словно я отвлек его от какого-то важного дела. Сейчас он провожал меня к картине, и стук его полуботинок по мраморному полу отдавался эхом в стенах музея. Кондиционированный воздух был прохладным и разреженным, но сильно пах лимонной мастикой для пола, а еще отдавал чем-то затхлым. Я начал понимать, почему Винченцо называл это место кладбищем.
Переходя из коридора в коридор, мимо знаменитых произведений искусства, и не задерживаясь возле них, я невольно думал, что вот так же целеустремленно шел по этим коридорам мой прадед, чтобы совершить свое дерзкое преступление.
Через каждые десять-двадцать шагов мой провожатый оглядывался и говорил: «За мной» – коротко и резко, как будто отдавал команду собаке. Мне даже захотелось тявкнуть в ответ.
Наконец, мы добрались до галереи «Зала государств», где находилась она, «дама Леонардо», как часто называл ее Винченцо.
Первое впечатление было: «какая же Она маленькая». Но уже через несколько секунд ее безмолвная сила поглотила меня. Что стало тому причиной – ее всемирная слава или то, что я много лет грезил этой картиной?
Шагнув ближе, я вздрогнул: навстречу мне из картины двинулась призрачная тень давно не бритого мужчины. Я не сразу сообразил, что это мое собственное отражение в стекле, которым закрыта «Мона Лиза». Переведя дух, я отступил назад.
– Стыдно закрывать такую картину стеклом, – произнес я, повторив за невидимым суфлером слова, которые Симона когда-то сказала своему мужу.