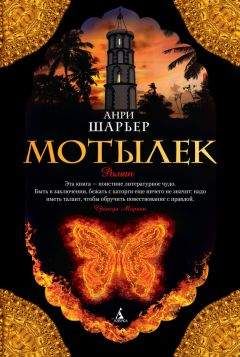Я продолжал курить. Вода стала прибывать. Закрыла ступни ног.
– Черный, – крикнул я, – как долго вода стоит в камере?
– Зависит от силы прилива. Час, самое большее – два.
Я слышал, как некоторые заключенные сказали:
– Está llegando. (Она прибывает.)
Вода медленно, очень медленно поднималась. Метис и негр забрались на решетку, свесив ноги в проход коридора, а руками обхватив два вертикальных железных прута. В воде послышался шум и плеск: большая канализационная крыса размером с кошку подгребала ко мне. Я вскочил на решетку, отвязал один ботинок и, когда она подплыла, с силой ударил ее по голове. Она выскочила в коридор и с визгом удрала.
– Ты уже приступил к охоте, француз? – спросил негр. – Если ты хочешь перебить всех, то никогда не кончишь. Лучше полезай на решетку. Держись за прутья и не волнуйся.
Я внял его совету, но железные прутья врезались мне в бедра, и я не смог долго выдержать такой позы. Я снял куртку с параши и привязал ее к прутьям решетки. Получилось что-то такое, на чем можно было сидеть. Теперь мое положение оказалось довольно сносным. Сидеть на решетке все-таки удобнее, чем висеть.
Вторжение воды, крысы, сороконожки, малюсенькие крабы, принесенные водой, были, пожалуй, для меня самым отталкивающим, самым угнетающим испытанием. Через час с лишним вода ушла, оставив после себя слой липкой жидкой грязи толщиной не менее одного сантиметра. Я надел ботинки, чтобы не месить босиком эту вонючую жижу. Негр бросил мне кусок доски, предлагая выгрести ил в проход коридора, начиная от лежака, на котором я буду спать, а затем от задней стенки камеры. На это занятие ушло полчаса, оно меня отвлекло от других мыслей. Я думал только об этом конкретном деле. Это уже кое-что. Теперь воды не будет до следующего прилива, то есть одиннадцать часов, так как она начинает прибывать через одиннадцать на двенадцатый. Уже можно обмозговать ее график: шесть часов на отлив и пять на прилив. Мелькнула довольно-таки абсурдная мысль: «Папийон, твоя судьба связана с приливами и отливами. Луна в твоей жизни играет важную роль, желаешь ты этого или нет. Прилив и отлив сослужили тебе верную службу, когда ты спускался вниз по Марони после побега с каторги. Точный расчет времени прилива и отлива помог тебе пуститься в плавание от Тринидада и Кюрасао. Причиной твоего ареста в Риоаче послужил отлив, который нарастал очень медленно, и отчего лодка не могла быстро выскочить в океан и уйти от погони. И вот ты здесь по милости прилива. Хочешь не хочешь, а это так».
Если однажды эти страницы будут напечатаны, может быть, среди читателей найдутся такие, которые немного пожалеют меня за то, что мне довелось испытать в Колумбии. Эти читатели – хорошие люди. Другие, двоюродные братья в первом колене двенадцати ублюдков, осудивших меня на каторжные работы, и братья прокурора по духу, скажут: «Так ему и надо: остался бы в исправительной колонии, ничего бы не случилось». Пусть так. Но позволят мне и читатель-доброжелатель, и читатель-ублюдок сказать еще несколько слов по этому поводу? Я вовсе не испытывал отчаяния. Отнюдь! Более того, я предпочел бы остаться в камерах старой колумбийской крепости, построенной испанской инквизицией, чем оказаться на островах Салю, где и следовало мне быть. Здесь я все-таки рассчитывал на побег, даже из этого вонючего подземелья. Я ведь находился на расстоянии двух тысяч пятисот километров от колонии. Здесь, правда, собираются принять все меры предосторожности, чтобы выдворить меня на «законное место жительства» – на каторгу, для чего мне придется, не по своей воле, преодолеть эти километры в обратном направлении. Только об одном я сожалел – о племени гуахира, Лали и Сорайме, о свободной жизни на природе. Без удобств, желанных для цивилизованного человека, но зато без полиции, тюрем и тем более без карцеров. Мне померещилось, что моим дикарям никогда бы и в голову не пришло наказывать врага таким вот варварским способом, и менее всего такого, как я, не принесшего колумбийцам ни малейшего вреда.
Я лег на доску и выкурил две или три сигареты у задней стенки камеры. Поступил так специально, чтобы не видели другие. Когда я возвращал негру кусок доски, которой выгребал грязь, то бросил ему зажженную сигарету. Он, чувствуя неловкость, поступил так же, выкурив ее у задней стенки клетки. Эти подробности могут кому-то показаться не такими уж важными, а по мне, они очень значимы. Не говорило ли это о том, что мы, отбросы общества, действительно обладали по крайней мере остатками понятия о правильном поведении в присутствии других.
Здесь не так, как в Консьержери. Тут можно мечтать, мысленно залетая куда угодно, и не надо прикрывать глаза платком от резкого, яркого света.
Кто же меня выдал полиции в монастыре? О, если мне доведется узнать об этом, он отправится на тот свет. И тут я сказал сам себе: «Не мели чепуху, Папийон. У тебя во Франции столько дела по части мести, так стоит ли затевать злодеяние против кого-либо здесь, в этой далекой и забытой Богом стране. Жизнь сама накажет доносчика, а если уж тебе действительно придется сюда возвратиться, то, конечно, не ради мести, а ради счастья Лали, и Сораймы, и детей, которые народятся от тебя. Если ты вернешься, то только ради них да индейцев гуахира, оказавших тебе честь, приняв в свое племя, и относившихся к тебе как к соплеменнику. Меня все еще несет вниз по сточной канаве, но даже здесь, в подтопляемом морем подземелье, я помышляю о побеге и, нравится это кому-то или нет, бегу и бегу к свободе. Это невозможно отрицать».
Мне принесли бумагу, карандаш и две пачки сигарет. Прошло три дня, как я здесь. Вернее, три ночи, ибо внизу ночь круглые сутки. Зажег сигарету. Как было не восхищаться чувством солидарности среди заключенных?! Колумбиец, передавший мне пакет, чертовски рисковал. Если его поймают, он наверняка сам окажется в этих клетках. Он знает об этом и соглашается помочь истязаемому в узилище. Он проявляет не только личное мужество и храбрость, но и благородство своей души. Прежним способом зажег бумагу и прочитал: «Папийон, мы знаем, что ты держишься молодцом. Браво! Дай знать о себе. У нас все в порядке. Приходила к тебе одна монахиня. Она говорит по-французски. Встретиться с нами ей не разрешили. Но один колумбиец успел ей передать, что ты в камере для смертников. Она сказала, что еще придет. Все. Привет от друзей».
Отвечать было нелегко. Но мне все же удалось написать: «Спасибо за все. Держусь. Напишите французскому консулу – как знать, где повезет. Не передавайте записки через других. Если поймают, будет лучше, если пострадает один. Не притрагивайтесь к кончикам стрел. Да здравствует побег!»
Из подземельной дыры меня выпустили на двадцать восьмой день, и это не без вмешательства бельгийского консула в Санта-Марте по имени Клаузен. Негр, которого звали Паласио, освободился из карцера через три недели после моего водворения туда. Он рассказал своей матери на свидании, что в карцере сидит бельгиец и попросил ее известить об этом бельгийское консульство. Такая идея пришла ему в голову однажды в воскресенье, когда он увидел, что бельгийский консул навестил узника-бельгийца.
Итак, в один прекрасный день меня доставили в кабинет начальника тюрьмы, встретившего меня словами:
– Ты француз, так почему же обращаешься к бельгийскому консулу?
В кресле сидел господин лет пятидесяти с дипломатом на коленях. Белая одежда; светлые, почти белые волосы; круглое, чисто выбритое, розовощекое лицо. Я сразу оценил ситуацию.
– Это вы говорите, что я француз. Я признаю, что я совершил побег из французской тюрьмы. Но я бельгиец.
– Вот видите, – умиленно заметил господин с лицом священника.
– Почему ты раньше не сказал об этом?
– Я полагал, что вам до этого нет никакого дела. Я не совершал никаких преступлений на вашей территории, а то, что бежал, – так это естественное желание каждого заключенного.
– Хорошо. Ты пойдешь к своим приятелям. Но, сеньор консул, я вас предупреждаю, что при первой же попытке к бегству я снова засажу его туда, откуда он явился. Отведите его к парикмахеру, а потом в камеру к дружкам.
– Благодарю вас, месье консул, – сказал я по-французски. – Очень благодарен и простите за хлопоты.
– Боже всемогущий! Да, досталось вам в этой ужасной черной дыре. Скорее идите отсюда, пока этот скотина не передумал. Я вас навещу. До свидания.
Парикмахера на месте не оказалось, и меня провели прямо в камеру к друзьям. Должно быть, я страшно выглядел, поскольку они то и дело повторяли:
– Да ты ли это? Не может быть. Что с тобой сделали эти свиньи? Скажи что-нибудь, да говори же! Что с глазами? Ты ослеп? Почему все время моргаешь?
– Отвык от света. Для меня он слишком ярок. Глаза привыкли к темноте.
Я сел спиной к окнам и стал рассматривать стены камеры.
– Так лучше.
– От тебя несет гнилью. Невероятно – даже тело пахнет гнилью.