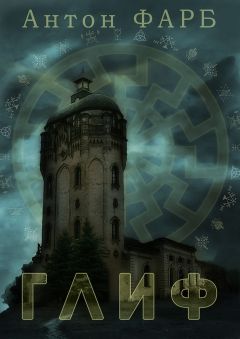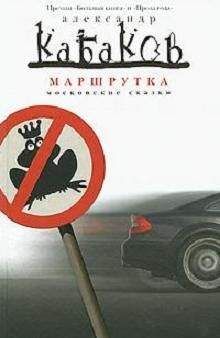Все-таки война глифов… Анжела была права… Откуда она, кстати, вообще так много об этом знает?.. Или даже не война, а — гонка. Одни открывают, а другие — наперегонки — закрывают. Казаки-разбойники, только вместо стрелочек на асфальте — кровь, бензин и огонь…
Стоп.
Вот оно!
Все стало на свои места.
Игра обрела смысл. Эклектика глифов — тоже.
Ключевое слово — открыть.
Взломать. Подобрать ключ. Угадать шифр.
Отсюда и такое разнообразие в символике глифов! Это же просто перебор возможных версий пароля! Белкин когда-то, на заре их знакомства, щеголяя своими познаниями в компьютерах, объяснял Марине, что любой пароль можно взломать методом тупого подбора вариантов, и чем мощнее компьютер, тем быстрее это случится.
Вот зачем Игру сделали достоянием гласности. И даже простейшие одноклеточные, вроде Илоны или Иванки, задействованы в этой массированной глиф-атаке на защищенный… как там говорил Белкин? Точно, фаервол.
Стена огня.
А что за ней? Что по ту сторону огня?
Что же мы выпустим в этот мир, когда глифы сойдутся?
У Марины от этой мысли пробежал холодок вниз по позвоночнику, и зашевелелись волоски на затылке. Противная кисельная слабость разлилась по всему телу.
Ей показалось, что она уже знает ответ…
— Мариш! — прошипела ей прямо в ухо Глаша. — Вон он, краевед твой! Явился — не запылился…
Мучительно знакомый. Пожалуй, это было самое подходящее определение для краеведа. Знакомый — Марина на сто процентов была уверена, что видела его прежде — и в библиотеке (ну это понятно — где ж еще обитать краеведам?), и за ее пределами. А мучительно — потому что попытки привязать краеведа к какому-либо событию или компании, где бы они могли пересекаться, закончились для Марины обострившейся мигренью.
Краевед был самый заурядный. Плюгавенький, в стареньком синем пиджаке поверх шерстяного жилета и лоснящихся коричневых брючках. Редкие черные волосики тщательно зализаны на пробор, на плечах — перхоть. Усы, которые на мужчине более могучего телосложения (как у Шамана, например) можно было бы назвать моржовыми, но у краеведа, в сочетании с узким, вытянутым лицом и глазками навыкате, больше напоминали тараканьи. И тонкие длинные пальцы с узловатыми суставами…
Он взял свою стопку книг — Марина едва успела вернуть на место листок с табличкой глифов, — уселся за стол у окна, прямо возле рабочего, деловито бурящего стену, и, не обращая внимания ни на рев дрели, ни на мигание ламп дневного света, углубился в изучение материалов.
Профессионал, оценила Марина. Интересно, что он уже накопал?..
Еще пару минут она помучилась, пытаясь вспомнить, где виделась — а может, и общалась? — с краеведом, а потом махнула рукой и решила пойти ва-банк.
Набравшись наглости, она подошла к столу, придвинула себе стул и уселась напротив краеведа. Но он ее даже не заметил! Марине пришлось кашлянуть в кулак, чтобы краевед оторвался от книг и поднял голову.
— Марина Сергеевна? — удивленно и почему-то обрадовано спросил он. — Здравствуйте!
— Здравствуйте, — осторожно ответила Марина.
Чуда не произошло, краевед не вспомнился. Хотя вертелось буквально на кончике языка.
— Как успехи? — спросила Марина.
Краевед красноречиво вздохнул.
— Да как вам сказать… — уклончиво промямлил он.
— Скажите, как есть.
— Тогда — никак, — развел руками краевед. — Можете так и передать Анжеле Валерьевне.
Анжеле?! Так это она его сюда направила? Как интересно…
— Ну что же вы, — приободрила Марина. — Так вот возьмете и сдадитесь?
Ее собеседник опять вздохнул и понуро ссутулил и без того узкие плечи.
— Вы понимаете, Марина, — доверительно начал он, — Житомир — город, конечно, древний, но… Как бы это сказать… История его имеет место быть лишь в виртуальном измерении.
— Это как? — не поняла Марина.
— Город много раз перестраивали. Бомбили, сносили, разрушали, прокладывали новые улицы, срывали трамвайные пути, убирали речки под землю, планировали новые кварталы, разбивали скверы, строили школы… И все это — поверх старого, древнего, забытого, никому не нужного. Не берегли мы свою историю. И теперь у нас не город, а палимпсест. Вот тут когда-то был замок, а теперь — сквер. Тут жил сахарозаводчик, а теперь в его доме ЗАГС. Это была водонапорная башня, а ныне — ресторан. А вот на месте этой школы когда-то, давным-давно, еще до революции было… Понимаете, что я имею в виду? Не осталось же ничего, ну может с десяток домов девятнадцатого века сохранились, из них девять — на Михайловской. А все, что древнее — быльем поросло, вон, от юридики иезуитской пару стен, и те долго не простоят. А я ведь говорил, писал, призывал беречь наследие наше, память нашу…
Похоже, краевед вырулил на привычную тематику «дайте денег на сохранение исторических памятников», и завел плач Ярославны почти автоматически.
— Подождите, — подняла ладонь Марина. — А по делу? О глифах вы что-то выяснили?
— Это не совсем моя специфика, — смутился краевед, приглаживая усы. — Я, конечно, собрал общую информацию из открытых источников…
— Нам не нужна общая информация, — отрезала Марина, в глубине души поражаясь собственной наглости. — Нам нужны конкретные факты!
— Факты? Хорошо, пусть будут факты, — вскинулся задетый за живое краевед. — Я проанализировал места появления всех известных мне глифов, как больших, так и малых. Ни одно из этих мест не упоминается в истории Житомира, как связанное с паранормальной активностью, по крайней мере, за последние двести лет. Более старых записей, как вы понимаете, в наших архивах нет. Более того, ни о какой мистике или магии в Житомире не существует даже фольклора. Есть пару сел в области, которые славятся своими бабками-ворожеями, есть наш полесский Стоунхендж — Каменное Село, есть еще Громовище в селе Купицы, про которое в девяностые годы запустили «утку», что там то ли НЛО садилось, то ли молниями людей убивало… И все. Ничего, хотя бы отдаленно связанного с глифами или чем-то подобным никогда и нигде не упоминалось. Это я вам авторитетно заявляю, — добавил он. — Так и передайте Анжеле Валерьевне и Белкину.
Белкину. Вот она, зацепка. У Марины будто щелкнуло что-то в голове, и она вспомнила, как зовут краеведа. Руслан. Даже фамилия всплыла: Руслан Ткачук. Они с Белкиным вместе играли в автоквест. И познакомились в тот единственный раз, когда Белкин уговорил Марину принять участие в этой ночной забаве. Марина тогда еще простудилась и раз и навсегда зареклась слушаться Белкина …
Но откуда Руслан знает Анжелу? И почему он работает на нее?!
Додумать эту мысль Марина не успела. Анкх на ее груди внезапно стал холодным, как лед. От неожиданности она ойкнула, вскинула голову и увидела, как рабочий, только что сверливший стену огромной дрелью (перфоратор, некстати вспомнилось правильное название), повернулся к сидящему к нему спиной Руслану и направил дрель (перфоратор!) прямо в спину ничему не подозревающему краеведу.
Рабочий был тот самый — олигофрен с заячьей губой, который едва не убил Марину банкой с краской в прошлый понедельник, то бишь — ровно неделю назад.
Тело среагировало само. Откуда только силы взялись… Марина вцепилась в край стола и рванула его вверх и в сторону, опрокидывая Руслана вместе со стулом наземь. Стопка книг и подшивок стаей испуганных птиц взлетела в воздух и врезалась прямо в уродливую физиономию олигофрена. Взрыкнула вхолостую дрель-перфоратор, грохнувшись на пол, и молча, даже не выматерившись, бросился бежать несостоявшийся убийца Руслана.
— Держи его! — завопила Марина, бросаясь вдогонку.
— Горбун? — переспросила Илона, скривившись. — Бу-э! — добавила она, весьма реалистично сымитировав рвотный позыв.
— И что ты имеешь против горбунов? — мрачно поинтересовался Радомский.
— Они гадкие, — сказала Илона. — Терпеть не могу уродов!
— Вот как?
— Некрасивые люди всегда некрасивы душой, — заявила Илона безаппеляционно. — Урод снаружи — урод внутри.
— И с чего ты это взяла?
Как выяснилось, у Илоны на этот счет имелась целая теория. Некрасивым людям, считала она, не было места в обществе. Над ними смеялись и издевались с самого детства, во дворе, в садике, в школе. А когда они достигали возраста полового созревания, им было сложно найти себе партнера. В результате каждый некрасивый человек — урод, по терминологии Илоны, нес в себе потаенный груз обиды на общество и был потенциально опасен как латентный социопат.
Пока Илона все это излагала (косноязычя и жеманно кривляясь), Радомский смотрел на нее, как посетитель зоопарка — на обезьянку, которая вдруг заговорила, и не просто попросила банан, а занялась анализом эмпириокритицизма как метода познания мира.