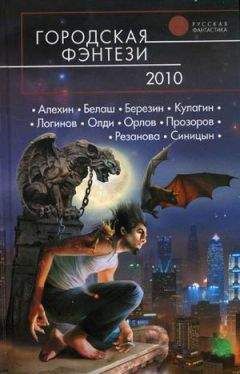Теперь вместо чапаров были высокие бетонные либо силикатного кирпича ограждения с металлическими воротами.
Что такое – чапары? Это ограждения садовых участков и просто частных домов, которые раньше выполняли функции наших заборов.
На Кавказе в предгорьях на склонах холмов растет колючий кустарник. Куст имеет форму шара.
Эти кусты вырубают и затем укладывают вокруг дома, или сада сплошной полосой, впритык друг к другу.
Получается непреодолимое препятствие примерно метровой высоты.
Причем сухие кусты не гниют десятилетиями.
Так вот, чапаров нигде не было. А были выложенные из кирпича или из бетонных плит высокие ограждения.
А за ними виднелись кирпичные же дома, крытые железом либо черепицей.
А сама улица была залита асфальтом.
Так что ни дедовского саманного домика, ни беседки, увитой виноградником, ни тутового дерева – ничего этого во дворе не было.
Постояв возле места, где я когда-то рос, я медленно побрел прочь.
Я вышел за город. Здесь тоже не было привычного когда-то глазу лесного ландшафта – зеленели поля, разделенные колючкой на участки.
Ничего привычного! Ничего из того, что снилось по ночам!
Я набрал в полиэтиленовый мешочек земли у родника, текущего из-под валуна. Родник тек тогда, сорок лет назад, тек и теперь. Вот возле него я и взял несколько горстей земли – согласитесь, земля с родины – наверное, должна быть той почвой, по которой когда-то ступала твоя нога…
В целом, Ялама, конечно, изменилась, и наверное – к лучшему. Современные постройки, везде – асфальтированные улицы. Если говорить коротко – я помнил Яламу патриархальной, а теперь она была современной, урбанизированной на каждом углу.
Поиски моих друзей тоже ничего не дали – на месте их прежних домов жили в новых современной архитектуры домах их родственники, а мои друзья разъехались, кто куда.
Оставался Рыбсовхоз. Что-то гнало меня туда, хотя, направляясь к остановке мотовоза, я внутренне был готов к тому, что увижу.
Предчувствия меня не обманули.
Не было остановки мотовоза, не было узкоколейки, даже следов от рельсов не осталось.
Это и понятно – этот допотопный вид транспорта нисколько не вязался с современной Яламой.
Но поселок Рыбсовхоза никуда деться не мог. Как и берег моря, на котором он располагался.
Шоссе, которым лишь изредка, но и в те времена я с друзьями пользовался, когда мы ездили в Рыбсовхоз не мотовозом, а автобусом, сохранилось, но тоже изменилось.
Вместо мощеного камнем, лишь сверху прикрытого слегка битумом дорожного покрытия теперь был гладкий асфальт. А само шоссе было гораздо шире прежнего.
Вот поселок на каспийском берегу изменился мало. Все те же белые домики, сады и дворы.
Но меня ведь интересовали не они.
Подсознательно я оттягивал минуту встречи с тем местом, к которому стремился. И поэтому я сначала спустился к морю, походил по берегу.
Конечно, вода отступила за эти годы еще дальше. Каспийское море высыхало, площадь его уменьшалась.
Но как и прежде, на берегу загорали, играли в мяч и в бадминтон, закусывали…
Я шел по кромке берега возле воды и пытался примерно найти то место, где загорал последний раз. Когда рядом расположилась Мила-японка.
Но эта было глупое желание – невозможно найти то, чего просто-напросто нет.
Везде один и тот же совершенно одинаковый желтый песок, сквозь который кое-где проросла жесткая трава.
Все – как было тогда, прежде…
Я поднялся по откосу наверх и спросил у одного из местных русских мужчин, который возился с лопатой возле калитки дома – сохранилась ли совхозовская рабочая столовая, которая когда-то была возле остановки мотовоза.
И получил странный ответ: не только столовая – остановка мотовоза тоже сохранилась.
Я спросил, как пройти к столовой. И, пока шел по указаному мне пути, думал: «Как же так! Мотовоз давно не ходит – в Яламе даже следы рельсовых шпал от времени затянуло землей, а здесь… Зачем вообще остановка, если не ходит мотовоз?»
Столовая была значительно перестроена – и здание было больше прежнего, и окна другие.
Раньше окна были обычными, двухстворчатыми – вроде тех, что у нас в жилым домах.
Именно у такого окна и сидела Мила с младшей сестрой тогда, когда мы обедали, пили пиво, а потом я загородил ей стулом проход к мойке.
Теперь же я стоял у темных зеркальных окон-витрин, отражающих площадку с киосками.
И внутри столовой тоже все было по-другому.
Поэтому я не стал обедать – я пошел по тропинке, которая сквозь заросли вела в нужную мне сторону. И неожиданно миновав высокие деревья, которые, как и прежде, росли примерно в этом месте, я вышел…
Я стоял и смотрел. И словно перенесся на много-много лет назад.
Те же рельсы, та же утоптанная песчаная площадка остановки мотовоза.
Вон там, возле рельса, по площадке ходила, ковыряя носком босоножки песок, Мила. А вон там стоял я, дурак этакий.
А вот этой выкрашенной в светло-голубой цвет деревянной лавочки тогда не было. Это точно, потому что тогда, в 75-ом, увидев, что я опоздал на четырехчасовый мотовоз, я поискал глазами, где бы посидеть в ожидании следующего. И ничего не нашел.
Так что скамейка появилась позднее.
Я посмотрел на кроны акаций – деревья были старыми, кое-где в кронах виднелись сухие ветки. Оно ведь и понятно – им было как минимум полвека.
Странно… Деревья давно нужно было бы спилить и засадить все вокруг новыми насаждениями. Все вокруг изменилось, а этот кусочек прошлого – он остался словно бы законсервированным.
Я подошел к скамейке, рассмотрел ее – действительно, ей было не более чем несколько лет.
– Да, скамейки этой не было, – услышал я голос сзади. – Тогда, в 1975 году.
Я обернулся.
В легком платье сзади меня стояла… Мила-японка.
Но так мне показалось лишь в первый момент.
Нет, это, конечно, была не Мила. Слишком молода для этого, но…
Очень похожа, очень! Хотя, конечно, для меня, как, впрочем, и для большинства европейцев, японцы все на одно лицо.
Как и японки!
Но это же была не просто японка. Это была…
Это была ее дочь, Акико. Впрочем, она попросила называть ее Аллой.
Я смотрел на нее во все глаза. Я ведь не совсем хорошо помнил лицо Милы. А теперь я смотрел на Аллу и вспоминал ее маму – такой, какой она была в возрасте 16—17 лет.
И в памяти моментально восстановился тот, далекий образ. Ну, конечно, та же чистая, чуть смуглая, кожа, миндалевидные черные глаза и тот же красивый четкий изгиб черных бровей.
И – волосы. Не прямые, черные, как воронье крыло, волосы, которые являются одним из характернейших признаков представителей народов Юго-Восточной Азии.
Нет, у нее были похожие на мамины темные, слегка волнистые. мягкие на вид волосы, падающие на плечи.
Все, что случилось со мной позже – результат неожиданности нашей встречи. Подсознательно я ожидал чего-то – но внезапно сохранившаяся, словно не пролетело чуть ли не 35 лет, остановка и такая встреча… Это все словно бы моментально вернуло меня назад, в те далекие времена.
И вот с этой минуты я стал совершать ошибку за ошибкой. А результат – вот он, видите, лежу на полке и морщусь от того, что саднит в груди…
Сначала мы сидели на голубой лавочке и разговаривали. Кроны старых акаций, закрывая нас от лучей солнца, создавали прохладный полумрак. Легкий ветерок, дующий со стороны моря, слегка шевелил листву и приятно овевал наши лица.
– Тогда, в 1976 году, вы не приехали, – рассказывала мне Алла. – Мама выходила сюда на остановку каждый день c середины июля, встречала четырехчасовый мотовоз.
Она была уверена, что приедете, и ждала вас.
Она почти никогда не была одна – наши девочки и ребята приходили сюда к ней. Скоро они сделали несколько таких вот скамеек, и часто сидели здесь с гитарами – песни пели и просто болтали.
Они знали, конечно, зачем сюда приходила Сумико – да-да, Мила – это маму так называли здесь. А вообще по паспорту она – Сумико. Сумико Дзери.
Да и как они могли не знать – все ведь наши ребята прошедшей осенью помогали маме искали в Яламе русского парня, который в августе прошлого года приезжал в Яламу.
Но – не нашли.
Ребята из 11 класса яламинской школы такого не знали. Они, конечно, поспрашивали у тех, у кого могли. Но ваших следов, Игорь, они не нашли.
Вот с тех пор так и повелось. Мама ждала вас с конца июля каждый год. Наши ребята – вместе с нею. Потом мама училась в Баку, закончила факультет журналистики, работала в журналах и газетах. Позже родилась я.
Нет, мама не выходила замуж. Наверное, Игорь, ей было трудно жить одной одиннадцать месяцев, потом конец каждого лета проводить здесь, причем годы шли – а вы так и не появлялись.