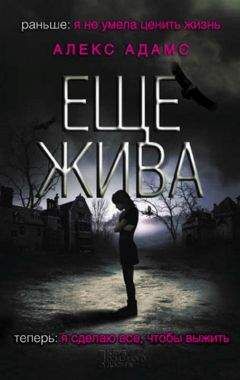— По правде говоря, я не верю в тебя.
Его слезы — высохшая краска.
— Я и в себя не верю тоже.
Пока мой ангел-хранитель в шрамах стоит на часах, я могу встретиться с Ником. Чувствую себя как тинейджер, выскальзывающий через окно спальни; часы бодрствования — это моя тюрьма, в то время как настоящая жизнь наступает в обрывочных снах.
Мои пальцы лениво рисуют круги на гладкой коже его груди. Его тепло вполне реально, а не плод воображения моего необузданного ума.
— Мне приснилось, — говорит он, — что ты прошла полмира, чтобы найти меня.
— Это неправда.
В его темных глазах немой вопрос.
— Я летела на самолете, ехала на велосипеде, пересекла море на корабле.
«Я люблю тебя», — пишут мои пальцы на его груди.
— Я же просил тебя остаться.
— Я не могла. Ты — все, что у меня есть. Ты и наш ребенок. Моррис умерла, я тебе говорила?
Он гладит мои волосы.
— Она сама мне говорила.
— Ты разговаривал с ней?
— Она здесь.
— Где? Не может быть, я видела, как она умерла.
— Здесь, рядом.
Просыпаюсь с щемящим чувством в сердце, как будто что-то — я даже не знала, что оно мне нужно, — было отнято у меня прежде, чем я успела это полюбить.
Этот сон измазал мое настроение чем-то густым и отталкивающим, испортив мне день. Чтобы не накинуться на Ирину только потому, что она попала под горячую руку, я сажусь на корточки в ближайшем к дверям углу. Теперь, когда не нужно беспрерывно шагать по мостовой, боль внизу спины немного утихла.
Дождь, проклятый дождь льет и льет, пока меня не начинает тошнить от этого звука. Его монотонность не нарушается раскатами грома, ливень не уменьшается до моросящего дождика. Нескончаемый одинаковый дождь.
Моя очередь дежурить приходит и проходит, и я опять сплю. Мы с Ником сидим друг напротив друга в его прежнем кабинете, в том, где я впервые рассказала ему про вазу.
— Ящик Пандоры, — говорит он. — Я тебе предложил открыть его.
— В этом нет твоей вины.
— Нет. Но есть в том, что ты здесь.
Он записывает что-то в блокнот.
— Тебя здесь не должно быть.
— Во сне?
— В Греции. Я должен был тебе сказать. Почему ты не прочла мое письмо?
— Я не знаю.
— Я твой врач, Зои. Расскажи мне.
— Потому что боюсь.
— Чего ты боишься?
— Того, что внутри.
— А что, по-твоему, внутри?
— Что-то такое, что лишит меня надежды. Я не могу этого допустить. Мне нужна надежда. Мне необходимо надеяться.
Он встает, стаскивает с себя через голову футболку, бросает ее на стул. Я беру его за протянутую руку, и он, развернув, прижимает меня спиной к твердым мышцам своей груди. Он щиплет мой сосок, сильно, так что я вздрагиваю и стенаю одновременно. Я чувствую его горячее дыхание у себя над ухом, и это заставляет мою кровь вскипеть.
— Мне нужно разбудить тебя, дорогая.
— Но я хочу тебя.
— Дорогая, проснись. Сейчас.
Невидимая рука вытаскивает меня из сновидения. Ахнув, я оттуда перелетаю сюда. Чистый яркий свет льется через стекла, окрашивая все цветами радуги. Дождь закончился.
— Привет, солнышко, — говорю я.
Ирина стоит у дверей, прижав ухо к щели. Разноцветные пятна пляшут на ее блестящих шрамах. Ее лоб пересекают тревожные морщины. Стряхнув с себя остатки сна, я подхожу к ней.
— Что? — произношу я одними губами.
Она смотрит мне в глаза.
— Снаружи кто-то есть.
Меня это не удивляет. Вопрос был лишь в том, когда он придет.
Ирина наблюдает, как я вооружаюсь. Мясницкий нож, пекарский ухват. Я бездомный ниндзя, подстегнутый гормонами беременности.
— Ты не можешь.
— Могу.
Ее плохое понимание языка не удерживает меня от объяснений.
— Так я могу контролировать ситуацию. Диктовать свои условия. Там, снаружи.
Глупая. Разозленная. Загнанная в угол. Страшно от всего этого уставшая. Все это обо мне. Все это во мне, когда я шагаю в ослепительный свет. Секунду я ничего не вижу, я беспомощна. Постепенно яркость снижается. Мои зрачки делают свою работу, сильно уменьшаясь, в то время как точка на горизонте разрастается.
— Ты должен быть мертв, — говорю я ему.
— Тем не менее я здесь, американка.
— Я убила тебя. Я видела, как ты умер.
— Ты видела, как я держал дыхание, пока ты уматывала, как трусиха. Ты неудачница во всем.
— Ну давай, мерзавец. Ты и я. Прямо здесь.
Я, должно быть, представляю собой замечательное зрелище: круглая, налитая в середине и худая, так что кости выпирают из-под кожи, во всех остальных местах. Даже усиленное питание шоколадом не прибавило жира тощему телу. Мой ребенок забирает все, что я съедаю, но так и должно быть. Матери жертвуют всем, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Хотя я и не прочла всех нужных книг, мне это все-таки известно.
Швейцарец такой же изможденный, как и мы. Пугало с самомнением. Не та развязная, расслабленная самоуверенность, как у Ника. Больше похоже на то, что, надев на себя маску и подойдя к зеркалу, он сказал себе: «Да, вот таким я хочу быть». Все в швейцарце ненатурально, и сейчас я это вижу.
Он смотрит на меня с маниакальной зачарованностью.
— Жду не дождусь, когда разрежу тебя от шеи до пупа, американка. Рассеку тебя, как дыню.
— Так, как ты это сделал с Лизой?
Мы ходим один вокруг другого. Нескончаемое движение.
— Нет. Тебе я сохраню жизнь. По крайней мере до тех пор, пока существо у тебя внутри не начнет дышать самостоятельно. Затем я разрежу его тоже, кусок за куском.
— Есть кое-что такое, чего мужчины в женщинах никогда не поймут до конца.
— Что же это?
— Самое опасное место в мире находится между нами и тем, что мы любим.
— Это туфельки, украшения и развлечения?
— Это люди.
Мои слова бьют шрапнелью прямо ему в лицо.
— Вещи не имеют значения. Только люди.
— То, что растет у тебя в утробе, не человек. Это отброс. Бога, медицины, науки.
Его голос звучит так, словно играют на дешевой скрипке. Ноты как будто есть, а мелодии нет. Звук плоский и пустой.
— Мой ребенок в порядке.
— Ты этого не знаешь. Не можешь знать наверняка. Разве ты не лежишь иногда без сна и не думаешь: «А вдруг я произведу на свет монстра?» Ты их уже видела. Мы вместе их видели, не так ли? Существа, чьи кости и плоть мутировали. Вспомни окостеневшее существо в Дельфах. То, что я с ней сделал, — это акт милосердия.
— Кто ты такой, черт возьми, чтобы приходить и раздавать направо и налево это свое… милосердие?
Он заводит руку за спину, вытаскивает украденный у итальянца пистолет.
Я падаю на колени, хватаюсь руками за голову. Вижу Ирину в обрамлении дверного проема. В руках у нее какая-то большая консервная банка. Что в ней, я не могу разобрать. Мозг быстро подбирает подходящий вариант. Ананас. Думаю, это ананас. Я понимаю, что Ирина собирается сделать: ударить его по голове, чтобы она превратилась в розово-серое месиво. Я ее не виню — он убил ее сестру. Но я не могу позволить ей сделать это. Сразу она не дотянется, и у него будет достаточно времени, чтобы выстрелить. Она не поймет, но я должна защитить свое. А сейчас она — часть того, что принадлежит мне. Моя раскиданная по миру семья изгнанников.
— Стойте!
Она не слушает. Возможно, ее англо-греческий внутренний переводчик дал сбой. Может, он слишком медленно работает. Или, что не исключено, ей все равно — настолько сильно она хочет, чтобы он был мертв. Ирина бросается вперед. Швейцарцу хватает времени, чтобы обернуться и остановить ее ударом пистолета. Он бьет по ее изувеченному шрамами лицу. Тугая блестящая кожа лопается, льется кровь. Она отлетает в сторону, валится на землю, хватаясь за разбитое лицо. Законы физики не на стороне проигравших схватку. Сила земного притяжения несет их туда, куда хочет.
Он обходит нас кругом, победитель в этом раунде, и тычет в меня пистолетом.
— Вставай. Иди.
Две негодующие женщины пребывают в молчании. Удивительно, поскольку можно было бы ожидать, что мы будем похожи на свистящие чайники, в которых бурно кипит вода. Эсмеральда как будто приклеилась к моему боку, тащится рядом, замедляя шаг, когда я это делаю, и останавливаясь, когда останавливаюсь я, что происходит не так часто, как хотелось бы.
— Не останавливайтесь, — говорит он.
— Нам нужно попить.
Пауза.
— Хорошо.
Самое ценное сокровище Греции никогда не упоминается в туристических проспектах. Родниковая вода, стекающая с гор, подается в краны, встречающиеся там и тут. Они торчат из богато украшенных мраморных или каменных стенок. Первой подходит Ирина. Потом Эсмеральда. Швейцарец показывает, что я должна наполнить для него бутылку, что я и делаю. Затем я пью за моего ребенка и за себя. Утолив жажду, мы идем дальше.