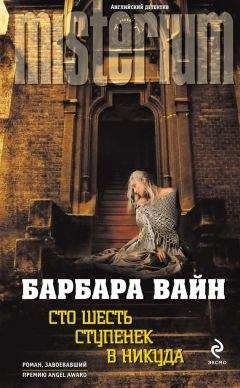Мы с Эльзой вышли из дома, чтобы поесть, а потом стали ждать. Она ни о чем меня не спрашивала, а взяла со стола Козетты один из новых романов и принялась читать. Я убеждена, Эльза считала, что моя эмоциональная связь с Белл отличается от нашей с ней дружбы. Но тогда мне было все равно, и я даже этого не скрывала. Читать я не могла, а просто лежала в кресле, разглядывая украшенный лепниной потолок и похожую на паутину люстру, думала и страдала. Время приближалось к полуночи.
— У меня такое чувство, что мы больше не увидим Белл, — сказала я.
— Не все ли равно?
Я не ответила. Эльза прекрасно знала, что мне не все равно.
— Она сюда не вернется, — сказала я. — И за своими вещами тоже, они ей безразличны. Пойдет к кому-то еще, например к матери.
— А ты уверена, что у нее есть мать?
— Нет, не уверена. Я думала, у нее есть брат.
— Давным-давно, когда мы встретились в Торнхеме, Белл говорила мне, что у нее нет родителей, что она лишилась их в двенадцать лет. Так что твои слова о матери кажутся мне подозрительными.
— Точно так же она могла соврать и тебе.
— Совершенно верно, только оба утверждения одновременно не могут быть правдой.
— Интересно, что случилось, когда Белл было двенадцать? Она говорила, что ее родители стали жертвой несчастного случая или что-то в этом роде? А с ней что произошло?
— Она сказала мне только, что лишилась родителей, и ее поместили в какое-то заведение.
— Хочешь сказать, детский дом?
Эльза как-то странно посмотрела на меня:
— Не думаю, что это был детский дом, по крайней мере вначале. Потом — да. Я не знаю, что это.
Пока она говорила — неохотно, с сомнением, словно из нее приходилось вытягивать слова, — мы услышали, как внизу открылась входная дверь. Мы сидели в гостиной, и, как мне кажется, обе подумали, что это Козетта или Марк, а хорошо бы, Козетта и Марк. Кто-то — один — преодолел первый пролет, миновал нашу дверь и стал подниматься выше. Наверное, Белл. Мы слышали, как она, тяжело ступая, взбиралась по лестнице. Именно поэтому мы не были уверены, что это Белл, и вышли на площадку, прислушиваясь. Стояли, будто персонажи сказки о привидениях, услышавшие странные звуки и незнакомые шаги, держали друга за руки и смотрели наверх. Нелепый, истеричный поступок, но мы затаили дыхание, словно присутствовали при развязке драмы. Скрип 104-й ступеньки был слышен даже с нашей площадки. Дверь в спальню Белл закрылась.
Эльза улыбнулась своей кривой, ироничной улыбкой, а затем разрядила атмосферу, заметив:
— У нее нет матери.
Мы вернулись в гостиную, но спать совсем не хотелось, хотя шел уже второй час. Мы открыли стеклянную дверь и вышли на балкон. Ночь выдалась теплой и очень тихой. Но если прислушаться, можно было услышать музыку, две разные мелодии, а также другие звуки, тихий гул транспорта и ритмичное постукивание, словно кто-то, проработав весь день, решил ночью повесить на стену полки и шкафчики. Листва была густой, как на деревенской улице, кроны деревьев неподвижно застыли. Дом напротив был увит виноградом, бледно-зеленые листья которого блестели в свете уличного фонаря.
Я с удивлением увидела «Вольво». Машина стояла на том месте, которое было пустым, когда мы с Эльзой выходили из дома. Мы видели только крышу автомобиля и понятия не имели, как долго он тут стоит. Мне пришло в голову, что нужно вернуться в комнату и выключить свет. Не могу сказать, сработала ли эта уловка, или погашенный свет остался незамеченным, но через пару секунд открылась водительская дверца, и из машины вышел Марк. Я едва удержалась от крика и почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Что стало с Козеттой? Где она? Не может быть, что Марк ее не нашел и вернулся для того, чтобы взять машину и поехать на поиски.
Он обошел вокруг «Вольво» и открыл дверцу со стороны пассажира. Я вспомнила его неизменную вежливость. Козетта вышла сама, не опираясь на предложенную руку. Тем не менее они были вместе, вернулись вместе. Марк захлопнул дверцу, и они стояли, глядя друг на друга, а затем, прямо на улице, где все могли их видеть, безразличные к тому, наблюдают за ними или нет, заключили друг друга в объятия и замерли, щека к щеке.
Марк обнял Козетту за талию и повел к двери. Они скрылись из виду.
Эльза вежлива и дружелюбна с Белл, словно та всего лишь проехала без билета в метро. Помнит ли она тот ужин, бегство Белл и мои страдания? Мы все благополучно выдержали экзамен среднего возраста. После ленча, за кофе, я наблюдала за Белл, такой величественной и благородной, невозмутимой и… безопасной. Ее слова Эльзе о неприглядном зрелище казались нелепостью. Возможно, она так сказала потому, что с того дня, когда я гналась за ней в метро или когда пришла в ее комнату в Килбурне, она словно сбросила много лет. Белл снова молодела, ожила. Я видела, как Эльза переводит взгляд с ее лица на мое. Наверное, у меня просто разыгралось воображение, но мне казалось, что Эльза сравнивает нас, недоумевая, почему Белл, на долю которой досталось столько страданий, выглядит лучше Элизабет, почти не страдавшей?
Конечно, она ничего не сказала и, возможно, даже ничего такого не думала. Мы болтали о безобидных пустяках, и прошло уже часа два, а я все еще не задала Эльзе вопрос, обязательный для наших встреч — других способов получить ответ у меня не было. Эльза рассказала нам о своей новой работе, новом мужчине, которого, возможно, ждала всю жизнь, хотя замуж за него не собирается, потому что больше никогда не выйдет замуж. Мы поведали о своем утреннем занятии, о дальнейших планах и намерении где-нибудь отдохнуть вместе. Я упомянула об отце и его приезде. А потом Белл встала и спросила, где у Эльзы ванная.
— У тебя есть ванная? — Вопрос прозвучал именно так, словно кому-то могло прийти в голову, что хозяйка этой очаровательной и со вкусом обставленной квартиры пользуется общественным туалетом и банями.
Когда Белл вышла, Эльза улыбнулась мне, и я поняла, что мы подумали об одном и том же. Может, Белл в чем-то и изменилась, но осталась такой же бестактной, невнимательной и абсолютно безразличной к правилам приличия. Я поспешно задала свой вопрос.
Эльза, похоже, меня поняла. Ее взгляд уперся в закрытую дверь.
— Полагаю, хорошо. Мы разговаривали по телефону пару недель назад.
— Я рада. Очень рада. Не думаю, — как часто я произносила эти слова, но всегда робко! — что речь заходила обо мне?
Такая конструкция предложения чрезвычайно удобна, правда? Можно обходиться без имен — на случай, если кто-то подслушивает под дверью.
— Нет, Лиззи, мне очень жаль. — Я кивнула. — У меня создалось впечатление, что даже упоминание о тебе причиняет ей сильную боль.
— Белл не спрашивала, — сказала я. — А сама я ничего не хочу говорить, пока она не спросит.
Я слышала, что Белл возвращается, слышала, как она остановилась у двери, прежде чем взяться за ручку. Она может подслушивать. Мы с Эльзой умолкли и переглянулись, ожидая, пока войдет Белл, охваченные страхом, зная, что она стоит по ту сторону двери, надеясь услышать тайны, не предназначенные для ее ушей.
Когда мы вернулись ко мне, в доме звонил телефон. Это было три дня назад, но кажется, что прошла вечность. Вдова, которую любил мой отец, но на которой не женился, не желая лишать меня наследства, позвонила, чтобы сообщить о его болезни; с ним случился удар. Белл вела себя странно. После возвращения от Эльзы она была тиха и задумчива. Услышав, что мой отец болен и я немедленно еду к нему в больницу в Уортинг, она спросила:
— Он умрет?
— Наверное.
— Я тут останусь одна, — сказала она. — Буду одна в доме. Не знаю, справлюсь ли.
— У тебя будут коты, — ответила я.
Я остановилась в доме отца, в поселке, где средний возраст жителей, как говорят, приближается к семидесяти. Я уже привыкла к этому, потому что каждый год приезжаю сюда на неделю, но в прошлом старалась выбирать время, когда проводится Арундельский фестиваль или в Чичестер приезжает хороший театр, чтобы мне было чем заняться. А однажды, четырнадцать лет назад, когда отец только купил дом, я провела тут целый месяц, захватив с собой пишущую машинку, — пыталась писать, пыталась казаться нормальной. Бедняга, он, наверное, думал, что должен заботиться обо мне на протяжении долгих лет, всю жизнь. Я не могла ему объяснить, что лишилась дома, друзей, что моя жизнь кончена, но сочинила достаточно убедительную версию для самой себя — нежелание жить в доме, где совершено убийство.
Почти все эти дни я провела в больнице у постели частично парализованного отца, который лежал с нелепо перекошенным лицом. Вне всякого сомнения, подобные чувства испытывает каждый, у кого умирает отец. Никогда раньше у меня не было такой глубокой депрессии, вплоть до физического недомогания. На меня навалилась неимоверная усталость, как у Белл после выхода из тюрьмы, и я много спала. Засыпала на стуле у постели отца, а вернувшись вечером в его дом, дремала в кресле у телевизора. А ночью я спала плохо. Лежала с раскалывающейся от боли головой и думала. Наблюдала, как из темноты проступают фигуры и тени — независимо от того, закрыты или открыты у меня глаза, я вижу мужчин и женщин, которых раньше не встречала, странные лица, подобные лицам незнакомцев, которых мы видим во сне. Мне всегда казалось, что одна из самых странных вещей на свете — это способность мозга придумывать людей для наших снов. Или они не придуманы? Может быть, мы их уже где-то видели, и их образ, словно фотография, запечатлелся у нас в сознании? Из толпы чужих лиц иногда выплывает лицо Козетты, а иногда Марка, но всегда по отдельности, разделенные множеством незнакомцев.