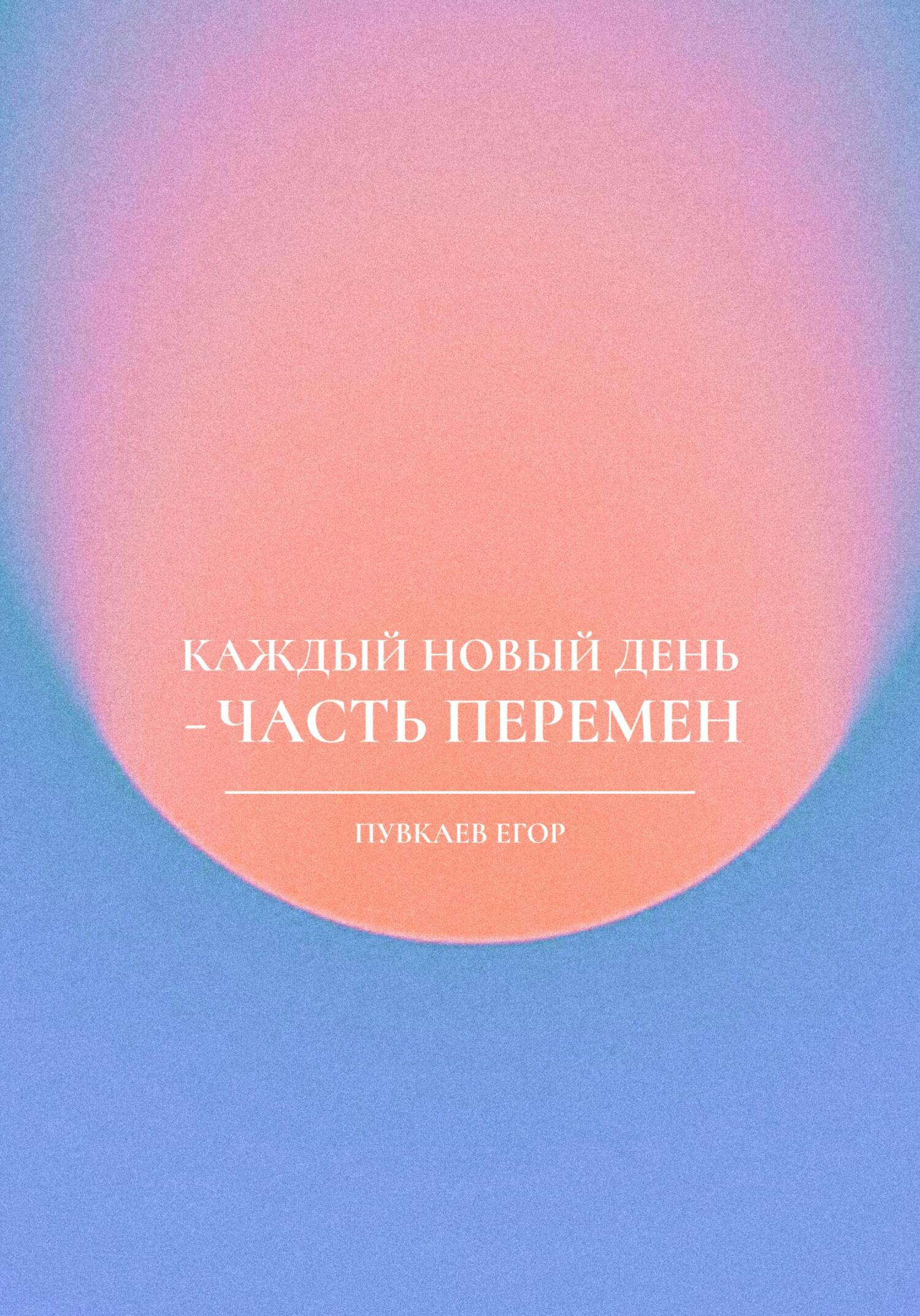больно, голову разом открутит, но кличка приклеилась, теперь уж не все и имя то его помнят.
Ну, вытащил он нас, в чувство привел, мне затрещину мне дал — «для профилактики дебилизма», Анюту, ясное дело не тронул. Рыцарь… А когда мы обратно шли, Анюта вдруг меня за руку взяла. Ненадолго. Просто взяла и мы шли рядом, пока тропинка широкая была. Даже и не говорили ничего. Потом как обычно пошли, потому, что на выходе место узкое и мостик. Больше она так не делала, но что-то поменялось. Может не сразу, я не отмечал, но точно поменялось. Мы иногда даже не с полуслова друг друга понимаем, а вообще без слов. Чистая телепатия, даже жутко. Хотя так не всегда. Когда она, к примеру, страсти свои рассказывает, я вообще не отличаю, где правда, а где выдумка. То есть мне понятно, что она всё придумывает, но вечно такое чувство, будто то не врёт. Девчонки так умеют, этого у них не отнять.
— Рубашку надел чистую?
Мать высовывает голову с кухни и придирчиво меня осматривает.
— Надел…
— А почему не расчесался?
— Я расчесался…
Она качает головой.
— Смотри там, у Анны Олеговны, веди себя… достойно!
«Достойно!» Отец покатывается со смеху. Я едва не плачу от досады.
— Ну мам, хватит уже…
— А что, — балагурит отец, ловко прихлопывая на своей груди жирного слепня. — Мать дело говорит. Анна Олеговна девушка хорошая. В самый раз бы тебе, разбойнику, невеста была, да только ведь не возьмёт… Английский не знаешь, волосы не расчесываешь, спину ободрал где то… Смотри, потом поздно будет!
Заливаюсь краской и спешу к калитке. Время у меня ещё полно, но я уж лучше по жаре погуляю… Слышу, как мать теперь заступается за меня — мол и я тоже жених завидный, не чета некоторым. Отец снова хохочет. Он вообще у меня весельчак.
На улице выдыхаю, снимаю рубашку и неспешно бреду вдоль заборов. Дачи живут своей жизнью. Мелюзга после дневного сна торопится в сопровождении бабушек на карьер. Там, как в песчаном корыте, они будут резвиться пока не придут сумерки, и их визги будут слышны даже в лесу. Потом их взбудораженных и счастливых поведут под неусыпным конвоем назад. До следующего ослепительного дня.
Кто постарше лягушатником брезгуют, идут сразу на Разрыв. Так у нас большущее торфяное озеро называется. Чтоб до него добраться, нужно через все участки пройти, перебраться по мостику через канаву и ещё по лесу минут 15 топать. Не ближний свет, но, но деваться особо некуда. В другие места только на машине, да и там толчея будь здоров. Лучше уж у себя. По крайней мере все свои.
У берега на Разрыве глубина метра два, а в центре — так и все пять будет, но по большей части озеро всё равно мелкое. Днём вода там почти горячая и коричневая от взбудораженного торфа. Бултыхаешься там как в похлёбке, никакого удовольствия, но делать нечего. А вот утром там хорошо. За ночь всё успокаивается и озеро абсолютно черное становится. Если ветра нет, то будто гранит в берега налит, а на нём кувшинки резные плавают, белее снега. В это время у берега большущие окуни берут. Степаныч всех уверяет, что здесь и налим, и сом имеется, но я не видел что-то.
Степаныч ещё одна местная легенда. Вместе с Настюковым тут с первых дней. Моряк Северного флота — сухой, жилистый, безвозрастный, зимой и летом цвета морёного дуба, ну и понятное дело, всегда подшофе. Жена у него давно умерла, дети разъехались, а внуки «коекакеры» приезжать на дачу отказываются. Но Степаныч и в ус не дует. Устроил себе домик, соорудил баньку, развёл пасеку и знай самогон свой чудовищный свежим луговым мёдом да кислющими яблоками закусывает. «Гнать, только гнать!» — все его девиз на дачах знают.
Он к нам тоже иногда захаживает. На рюмочку чая. Раз он после такой рюмочки, «по большому секрету» отцу моему рассказывал, что когда то давно, лет 10 назад, прибежал к нему поздно вечером Настюков. Налей, говорит, Степаныч, самогону, очень нужно, а у самого глаза как блюдца. Ну, Степаныч парень флотский, трезвый лишнего не спросит… Впустил товарища заводского, налил как полагается. Сели, выпили, повторили, добавили, по новой начали, а потом Настюков ему и говорит: «Я, говорит, брата своего сегодня утром встретил… На Демьяновых болотах… Того что в 45 пропал… Вышел из-за поворота, а он стоит на тропинке, улыбается… Совсем не изменился с тех пор… Привет, говорит, Илья… Как жизнь?.. И вроде обнять хочет… Только обниматься я не стал — сбежал… До самого дома не останавливался…» Такая вот история.
Когда Борька алкаш, сторож наш первый, на Разрыве утонул, его долго найти не могли. Глубоко и ила на дне много. Два дня воду баламутили, пока не вытащили. Под корягу заплыл. Мужики рассказывали, что когда его выволокли, он весь седой был, хотя до этого волосы у него совсем черные были, цыганистые. Испугался видно перед смертью крепко. У Степаныча, понятное дело, на этот счёт своя теория имеется. Ушма, говорит, Борьку утопила, оттого и поседел он.
Только сам же он до этого случая рассказывал, что если Ушма кого утащит, то его уже не найти. К утопленникам у неё любовь особая. С этим все соглашаются. Труп она по корягу на дне запрячет понадёжнее и навещает потом время от времени, проверять, как он там… Волосы ему расчёсывает, в глаза смотрит… Не дай бог любимец её пропадёт — люди найдут или течением вынесет — рассердится жутко. Пока кого то другого не утащит к себе взамен, не успокоится. Поэтому раньше, если кто на здешних болотах пропадал, местные его и не искали особо. Так только, для порядка походят, покричат и домой, от греха подальше. Бывало даже и найдут утопленника, но не трогают, оставляют как есть. Чтоб Хозяйку не гневить. Мертвецу то уже всё равно, а остальным спокойнее.
Мотаю головой. Про Ушму думать не стоит. И так уже кошмары замучили. Я родителям не говорю особо, глупо же. Да и чем они помогут? Я и сам знаю, не маленький, что мерещится мне всё это. Только одно дело это днём понимать, а другое — ночью. Пока светло проблем то нет, но как вечер наступает, прям беда, хоть спать не ложись. Я уж и зеркало на ночь у себя занавешиваю и картины, да только без толку — все равно кажется, что бродит кто-то по комнате, к кровати