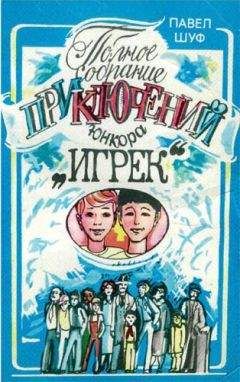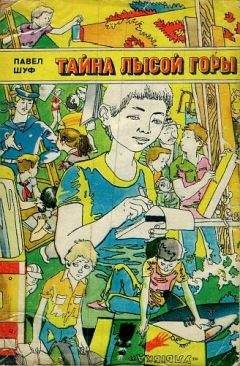Стасик до боли закусил губу и захлопнул книгу.
Урок Александра Григорьевича был предпоследним. Едва ботаник вошел в класс, Стасик бросился к нему с веточкой, которую заранее положил в парту. Протягивая Александру Григорьевичу подрагивающую в руках веточку, он взмолился:
— Скажите Стелле!.. Скажите!..
Учитель повертел веточку и спросил:
— Откуда у тебя исирик?
— У деда взял…
— Вот так-то! — злорадно заключила Стелла. — А он про какую-то гармалу нам в классе показывает. Я же говорила… А он выкручивается.
— Верно, — кивнул учитель. — Называют это удивительное растение по-разному. В Таджикистане, например, его имя — испанд. А по-научному — гармала. Это ты, Хван, верно сказала.
У Стеллы вытянулось лицо. Стасик торжествовал. Наконец Стелла уронила:
— Удивительное?.. А чем оно… удивительное?
Александр Григорьевич охотно объяснил:
— Свойствами своими оно удивительно. Еще в древности люди заметили, что гармала, или, если хотите, исирик, уже одним тем, что просто находится в комнате, дезинфицирует воздух, убивает растворенную в нем болезнь. Народ сметлив, наблюдателен, а народная медицина — и вовсе вещь до конца не изученная и по сей день. Сам Ибн Сина знал целебные свойства гармалы и советовал подвешивать ее пучки в комнате.
— А если… Если жгут ее?.. — Стелла пыталась ухватиться за последнюю ниточку.
— И так поступают, — подтвердил учитель. — Дым гармалы — настоящая аптека! Чудо природы. В старину, бывало, объявлялись шарлатаны, называвшие себя заклинателями злых духов. С помощью этой травы они дурачили легковерных, делая вид, что изгоняют из больных злых духов, демонов болезни. А ведь вполне приличное, дельное растение. Никакой мистики, сплошная наука. Эту траву можно в лабораториях изучать…
Стасик упивался словами Александра Григорьевича. Стелла сидела, не в силах оторвать взгляда от крышки парты. В середине урока к ней пришла записка от Стасика: «Ну, как лекция? Привет от джинна!» Стелла отослала записку ему же, упрямо написав на обороте: «Все равно! Сам слышал, что сказал А. Г. Ее колдуны использовали». Стасик не отступил и прислал новую записку: «А Ибн Сина? А лаборатория?» Стелла упорствовала. Она ответила с подковыркой, с подглядыванием в учебник химии, с оттяжкой, с кастетом в каждом слове: «А аппендицит этой твоей травой вылечить можно? И вообще, Барханов, пионер обязан верить не в чертовщину, а в биохимию растительных соединений и в журнал «Знание — сила». Понял? И деда к тому же приучать. Ясно?»
Поняв, что Стелла непобедима, Стасик сложил язык и прекратил борьбу.
Но на другой день он удивил нас, явившись в школу только к третьему уроку. Был Стасик бледен, рассеян, расстроен. Эммануил Львович трижды назвал его имя, прежде чем Стасик услышал и испуганно вскочил:
— Что?.. Меня?..
— Если ты — Барханов, то тебя, — улыбнулся Эммануил Львович. — Стихотворение выучил? Рассказывать иди.
Стасик опустил голову.
— Не выучил… В смысле — не успел.
— Траву жег? — хохотнула Стелла.
Стасик молчал.
— Что случилось, Барханов? — Эммануил Львович подошел к парте Стасика. — Заболел, что ли?
— Не я… — глухо сказал Стасик. — Дедушка… Сердце у него слабое… Осколок с войны в левом плече притаился. Как мина в теле сидит. Чуть погода переменится или, к примеру, расстроится дед, понервничает — сразу нехорошо ему.
— Фронтовик?
— Танкистом он был, — вздохнул Стасик, — До ухода на пенсию работал бульдозеристом. А теперь вот… болеть зачастил. В больницу его утром увезли. Я у него был, термос с бульоном отвез, потому и опоздал в школу.
— Поправится твой дедушка, не беспокойся, — вздохнул Эммануил Львович и добавил — И погода хорошая на дворе. Долго не переменится.
— Погода-то хорошая, — скучно кивнул Стасик. Он не видел, что при этих его словах Стелла метнула в залитое радостным солнцем окно взгляд, полный тревоги и отчаяния.
После урока она тронула Стасика за руку, проговорила виновато:
— Может, деду нужно что-нибудь? Ты скажи.
— Ничего не нужно, — ответил Стасик, не поднимая глаз.
— Может, за каким лекарством нужно в Ташкент съездить? Ты узнай, ладно? — вкрадчиво продолжала она. — Лично я с удовольствием.
И по тому, как отшатнулся от нее Стасик, как задрожали его губы, Стелла поняла, что сказала обидное.
— С удовольствием? — переспросил Стасик. — С удовольствием можешь лекции читать. А деда моего не трогай!..
— Так я же… — Стелла растерянно развела руками.
А солнце в окнах стояло и правда замечательное. Каждый день спрашивали мы Стасика — как дедушка.
— Уколы делают, — отвечал он.
Однажды Стасик появился совсем грустный. Мы всполошились: что с дедом? Стасик вздохнул:
День рождения у него завтра. А он в больнице.
Поправится — выйдет, — сказал я. — Все будет хорошо, ты не волнуйся. Он же танкист.
Танкист-бульдозерист, — поправил Стасик. — Он часто вспоминал, как после войны сменил танк на бульдозер. Любил он его. Говорит, пока работал бульдозеристом — продолжал считать себя танкистом…
— А давайте мы ему торт испечем! — загорелась Стелла. — И завтра поздравим с днем рождения. Я могу испечь.
Не надо торт. — мотнул головой Стасик. — Он сладкого не любит.
А что любит? — во взгляде Стеллы можно было прочитать готовность испечь, сварить, засолить, изжарить что угодно — лишь бы дедушка Абдурахман был доволен. И Стасик тоже.
Стасик подумал. И сказал неожиданное:
Он песню любит. И листья любит. На свой день рождения дед всегда ставит свою любимую пластинку и слушает раз десять — не меньше.
Что за пластинка?
Вальс. Про то, как на фронте один гармонист играет в лесу вальс, а бойцы слушают,
А что за листья? — не выдержал я. — Ты сказал, что он любит листья…
Стасик заулыбался.
Примета у него такая, Он ведь плохо видеть стал. Зрение сильно ослабло. Он мне сказал, что времена года теперь различает по звукам.
Как это — по звукам?
— А очень просто. Зиму — но скрипу снега, осень — по хрусту листьев под ногами. Примета у него есть, — Стасик снова вздохнул. — Он мне однажды вот что про нее сказал. Если, говорит, услышу скрип снега, считай дотянул танкист до зимы, а значит, переползу ее, вражину, и обязательно встречу весну… Он и осень так же ждет. Верит, что, если захрустят листья под ногами, значит, он и осень победил.
Я скосил глаза в окно. Солнечные блики плясали на листьях — еще по-летнему сочных, зеленых. Осень пока ни на граммулечку не напоминала о себе, хотя уже вовсю листала дни сентябрьского календаря. После урока можно было даже загорать — духовка лета не спешила остывать, будто природа замешкалась и забыла выключить ее,
Может, через месяц желтые листья появятся… — неуверенно протянул я. — Знаешь, как бывает? Жарко-жарко, а потом — Р-раз, и сразу золотая осень! Вот дедушка твой и пройдет по хрумким листьям. Если любит это…
Очень любит! — подхватил Стасик, — Когда начинается листопад, он или без конца по саду гуляет, или просто на тахте там сидит и листья ловит. Чудак…
После уроков я заглянул в актовый зал. Сквозь его приоткрытые двери лилась музыка. Новобранцы оркестра репетировали на новеньких духовых инструментах, которые подарили шефы.
Музыканты раздували щеки и пучили глаза, барабанщик, поставив ногу на «лапу», старательно доставал колотушкой тугой бок барабана, огрызавшегося сердитым гулом. Репетицию проводил учитель пения Михаил Харитонович Бялый. Сквозь хаос звуков в зале, где, казалось, никто не желает слышать собрата по оркестру, с трудом вызревал «Марш энтузиастов». Духовики готовились к концерту. И тут меня осенило: а что, если…
Оглушенный этой мыслью, я закричал;
— Михаил Харитонович, можно вас на минуточку!
Мой жалкий писк захлебнулся и утонул в Гольфстриме звуков, в их неодолимом водовороте. Казалось, это многоголосое и бессвязное пищание, уханье, рев никогда не остановятся. Наконец я не выдержал, выдрал листочек из тетрадки и написал: «Михаил Харитонович, есть очень срочное и важное дело. Надо помочь хорошему человеку. Прошу вас выйти в вестибюль, здесь — ужас, ничего не слышно», И передал листочек учителю.
Пробежав глазами записку, Михаил Харитонович вдруг воздел руки над головой, поставив их крест-накрест. И произошло чудо. Сходу натолкнувшись на незримую, но строгую преграду, тайфун звуков задрожал, притормозил, с визгом взвился напоследок. ввысь и, словно больно ударившись в потолок, бессильно рухнул и умолк, оглушенный, укрощенный. В тишине, непривычно кольнувшей уши, Михаил Харитонович сердито спросил меня:
— Что случилось? Почему мешаешь репетировать?
— Погодите! — взмолился я. — Я не мешаю… Но случилось вот что… — и я рассказал учителю обо всем, что произошло у нас из-за Стеллы.