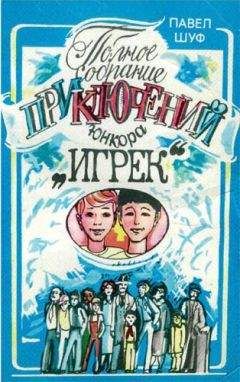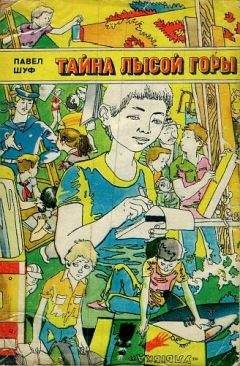Дедушка Абдурахман стоял у распахнутого окна, откуда больно била в упор, как из дзота, до слез ласковая музыка, а учитель Михаил Харитонович поднимал песню в атаку и вел бой, чтобы вырвать из плена дедушку Абдурахмана.
Старший сержант запаса Абдурахман Барханов стоял у окна, высоко подняв голову и, сильно шурясь, вглядывался в незримую быль — поверх оркестра, поверх все еще зеленых, живых садов, поверх тяжелых, с танк величиной облаков, нахлобученных на острые верхушки тополей, что встали цепью у горизонта — словно готовились взмыть в безудержную штыковую и пронзить облака, бесцеремонно оккупировавшие голубую высь, и только ждали боевого приказа, чтобы немедленно проучить захватчика.
Старший сержант запаса Абдурахман Барханов, стоя у окна, принимал парад у музыки и у своей давней фронтовой юности.
А когда оркестр умолк и мелодия, призвавшая к окнам больницы десятки ходячих больных, вновь улеглась отдыхать в меди полыхающих на солнце инструментов, дедушка Абдурахман, так и не шелохнувшись, тихо сказал:
— Стасик… Стелла… я слышу… Слышу листья…
— А что если здесь, в пустующей первой колоночке стенгазеты, поместить воспоминания участника войны? — подумал я.
— Хорошая идея! — сразу же согласился Сервер Мамбетов и хлопнул крышкой парты. — Давай спустимся в библиотеку. Это же секундное дело! И никаких хлопот…
— Зачем в библиотеку? — удивил я Сервера.
— За воспоминаниями, конечно, — Сервер окинул меня взглядом, в котором читалось недоумение. Он как бы говорил сейчас сам себе: вот не думал, что редактор нашей стенгазеты такой бестолковый и непонятливый…
Но вслух он произнес совсем другое:
— Попросим у библиотекаря какую-нибудь книгу фронтовых воспоминаний и перепишем кусочек. Можно еще из газеты. В газетах часто такие материалы печатают. «Бойцы вспоминают минувшие дни…» — что-то в этом роде.
— Не пойдет! — возразил я. — Нужно другое… Нужно, чтобы это был наш ветеран, свой, поселковый. Как думаешь, Стасик?
Стасик Барханов был третьим, кому совет отряда поручил выпустить стенгазету, посвященную Дню Советской Армии. Для того мы и остались после уроков, чтобы наутро газета висела на стене — ведь праздник уже завтра.
— Прав Володя, — сказал Стасик. — Давайте с моим дедом посоветуемся. Он подскажет…
— Слушай! — обрадовался я. — Не надо никаких его подсказок. Ведь твой дед в войну был танкистом, так?
— Танкистом! — подтвердил Стасик и не без гордости добавил: — Старший сержант запаса!
— Вот и говорю!.. — продолжал я, словно спохватившись. — Давай запишем воспоминания не кого-нибудь, а твоего деда. Случай фронтовой запишем. Интересно ведь, а?
А газета была почти готова. Оставалось заполнить лишь первую колонку.
И мы отправились за этой колонкой к Стасику домой. Портфели и рулон оставили в классе, решив, что вернемся сюда через часик-другой, чтобы довершить дело и прикнопить газету к стенду. Захватили с собой лишь тетрадку с ручкой — воспоминания бойца записывать.
Но во дворе дедушки Абдурахмана не было. Обычно он возился в саду.
— Чай пьет, — со знанием дела сказал Стасик. — Зеленый. Девяносто пятый. Около телевизора. Наверное, что-нибудь про войну показывают.
Но не оказалось деда и на застекленной веранде, у ступенек которой стояло два ведра, прикрытых листом фанеры. Телевизор скучал в углу, невостребованный. Стасик толкнул дверь, ведущую с веранды в комнату, и окликнул тишину:
— Дедушка, ты где-е?..
До нас донесся приглушенный голос из спальни.
— Уснул, что ли? — удивился Стасик. — Странно. Он к тихому часу не привык.
Мы протиснулись в спальню. Дедушка Абдурахман полулежал на двух высоких подушках поверх цветного одеяла. Он был в полосатом халате, в руках держал толстый альбом, а по одеялу рассыпались десятки фотографий.
— Дедушка, ты чего? — насторожился Стасик. — Заболел, что ли?
Дедушка Абдурахман как-то виновато улыбнулся и постучал пальцем в плечо.
— Колет? — догадался Стасик, — Осколок фронтовой опять беспокоит?..
Он поправил сползающие подушки и наклонился к деду:
— Тебе удобно?
— Все хорошо… Пройдет… А я вот фотографии посмотреть решил, вспомнить. Как праздник военный подходит — тянет меня к этому альбому, тянет. Душа болит, сердце ноет… А посмотрю снимки, загляну в глаза фронтовых друзей — и полегчает, отпускает. Это как перекличка наша боевая. Я их окликаю и они меня тоже. И живые, и…
Абдурахман-бобо умолк.
Я подтолкнул Стасика локтем: говори, мол, самое время.
Стасик понял, сел на край кровати и сказал:
— Дедушка, ты помоги нам, ладно?
— А что случилось, сынок? — сынками он называл всех — и собственного сына, и внуков, и всех нас — друзей Стасика.
— У нас задание — газету надо повесить завтра ко Дню Советской Армии.
— Хорошее дело! — кивнул дедушка Абдурахман. — Доброе дело. А я вам зачем?
— Колонки у нас не хватает. Первой колонки. Понимаешь?
— Вот и допишите, если не хватает.
Тут я не выдержал, уж больно долго Стасик раскачивался.
— Помогите нам, дедушка Абдурахман! — взмолился я. — Без вас у нас ничего не получается.
— Это как же?
Я с готовностью объяснил:
— Мы не простую колонку задумали, а чтобы живой она была.
— Живой?
— Ну да. Бойцы вспоминают минувшие дни… Понимаете?.. Воспоминания чтобы ваши…
— Мои воспоминания?.. — вздохнул дедушка Абдурахман.
— Ваши — подтвердил я, торопясь убедить Абдурахмана-бобо согласиться и рассказать нам какой-нибудь потрясающий эпизод. Я уже представил, как завтра сгрудятся все наши у этой колонки.
— Газету эту завтра будут все читать, — весело добавил я. — Мы ее сегодня вечером допишем и повесим.
— Завтра, дедушка, у нас будет сочинение! — подхватил Стасик.
— А тема какая? — спросил дед.
— Праздничная. «Памяти павших будьте достойны».
Дед поднял на него глаза;
— Праздничная, говоришь, тема?
Стасик, поняв, что сказал не так, заметался:
— А как же, дед? Завтра праздник. Так ты помоги нам, ладно? Вспомни что-нибудь. Ведь войну не забывают, правда?
Абдурахман-бобо не ответил, собрал разбросанные по одеялу фотографии и стал их перебирать, вглядываясь в каждую и молча думая о чем-то. Молчали и мы. На моих коленях наизготовку лежала тетрадка, куда я собирался записать воспоминания танкиста.
Наконец Абдурахман-бобо протянул нам одну из фотографий.
Перед двумя грозными танками, увешанными для маскировки густыми ветками, стояли, обнявшись, два танкиста. Одного из них мы узнали сразу — это был сам дедушка Абдурахман. Но, конечно, еще не дедушка, а молодой улыбчивый парень. Второй был незнаком нам.
— Это Гияс, — тихо сказал дедушка Абдурахман. — Гияс Абдуганиев. Брат мой фронтовой. Тот самый…
— А где он сейчас? — выпалил Сервер и осекся, заметив, как побледнел дедушка Абдурахман, как дрогнули его брови.
— Под Прохоровкой он, сынок. Под Прохоровкой. Слыхал о такой?
Сервер напрягся и судорожно закивал:
— Да-да! Слыхал… Я в кино видел… Там танки воевали… Одни только танки… Самое большое танковое сражение. Верно?
— Верно, сынок. Так было. Вот там Гияс и остался… Его машина впереди моей шла. Прямое попадание… Загорелся как свечка… Может, враг в меня целился… Выходит, заслонил он меня, Гияс. Танком своим заслонил. Собой заслонил.
Абдурахман-бобо умолк, взял снимок, молча кивнул, будто спрашивал о чем-то Гияса, глядевшего на него со снимка, и сказал:
— Перед тем боем сфотографировались. Корреспондент из дивизионки снял.
— Для газеты? — спросил я.
— Нет, так просто. Гияс его уговорил. На память. Вот у меня и хранятся оба снимка.
— Почему оба? — встрепенулся Сервер.
— А тебе непонятно? Снимки корреспондент тот где-то через месяц привез, по случаю. Для нас обоих привез. Оба мне и остались, — и он показал второй снимок. — А что, сынки, не слыхали о таком? Об Абдуганиеве Гиясе, говорю, впервые что ли слышите?
Мы смущенно переглянулись. Нет, не слыхали мы о таком герое. Вот рассказал о нем дедушка Абдурахман — и узнал немного.
Абдурахман-бобо сунул снимки в альбом, положил его на тумбочку и спросил:
— Сочинение, значит, писать собираетесь завтра?
— Сочинение, дедушка! — подтвердил Стасик.
— Как, говоришь, название его?
— «Памяти павших будьте достойны».
— А готовились?
— Конечно, дедушка. Книжки про героев прочитали. Нам эту тему Эммануил Львович еще месяц назад сказал. И список книжек дал про погибших. Чтобы каждый про кого-нибудь прочитать успел.
Абдурахман-бобо, кряхтя, приподнялся с подушек п спустил ноги на палас.
— Молодцы, — сказал он. — Молодцы, что готовились. — В голосе его, впрочем, не было радости и тепла, а сквозила какая-то горечь и грусть.