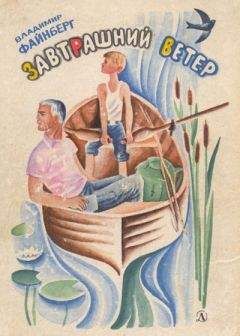Я снова влез головой в окошко кассирши:
— А какой сегодня день?
— Что? — удивилась она.
— День какой? День недели?
— Может, тебе и число сказать? С Луны ты, что ли, свалился?
— С Луны, — сказал я. — День недели и число какое?
— Воскресенье, мальчик, второе июля…
Я с облегчением отошёл от кассы: ещё только воскресенье.
Когда я спустился с дебаркадера к лодке, я понял, что нехорошо оставлять Владилена Алексеевича одного. Он всё так же сидел, откинувшись на свёрнутую палатку. Солнце жарило над ним вовсю.
Я поднёс ему к глазам телеграмму.
Он прочёл и невнятно проговорил:
— Я так и думал.
Сказал и про расписание.
Губы Владилена Алексеевича беззвучно шепнули:
— Плохо… Пожалуйста, надень на меня кепку…
Я скорей схватил белую кепку, которая лежала совсем рядом с ним, а он всё это время мучился от жары и не мог её достать, и надел ему на голову.
— Может, вы пить хотите? — спросил я и в это время заметил знакомый катерок, который подходил к дебаркадеру с другого бока.
— Постойте, Владилен Алексеевич, я сейчас!
Я выскочил из лодки на берег, снова взбежал по сходням на дебаркадер и увидел, что это в самом деле катерок очкастого писателя. Он стоял на палубе возле маленького штурвала и зачаливал катер.
Когда его судёнышко поравнялось с краем дебаркадера, я спрыгнул прямо к нему на палубу.
— Ты что? — крикнул писатель. — Сумасшедший! Ноги сломать захотел? А если б оскользнулся?
— Послушайте, вы меня не помните? — сказал я и для равновесия, чтоб не упасть, ухватил его за рукав куртки. — Вчера на лодке…
— С кинорежиссёром? Что случилось?
— Вы только постойте, зря не причаливайте, — попросил я. — Его надо к нам в посёлок под ГЭС…
Я быстро рассказал, в чём дело.
— Всё равно придётся причаливать, — сказал писатель. — Надо заправиться. Бензина мало. Часа за четыре с половиной доставлю.
…Отплыли мы, наверное, только через час. Пока он доставал бензин, пока переводили Владилена Алексеевича на катер, пока перегрузили вещи…
И вот мы плыли уже обратно вверх по реке, а сзади за катерком тянулась на канате моя пустая лодочка.
— Часа за четыре довезу, — повторял всё время писатель и оглядывался на Владилена Алексеевича, который сидел на раскладном стуле.
Сначала мы хотели уложить его в каюте на койку, но Владилен Алексеевич сердито замотал головой.
— Успею на кроватях! — сказал он мне одними губами. — Хочу реку видеть.
Я сидел на боковой скамеечке и всё глядел на него.
Катерок шёл быстро. И мы давно потеряли из виду мыс с вётлами на правом берегу. Впереди слева показался четвёртый остров. Владилен Алексеевич провожал глазами каждую чайку, каждую встречную моторку… А когда мы уже проплыли четвёртый остров, он повернул ко мне голову и улыбнулся.
…Теперь, когда я вспоминаю о нём, я всегда сразу вижу, как он поворачивает ко мне седую голову и улыбается молодой улыбкой.
А тогда мы всё плыли и плыли, Владилен Алексеевич всё смотрел и смотрел. Когда мы проходили мимо третьего острова, хозяин катера включил радио и оглянулся на нас. Передавали последние известия.
Владилен Алексеевич закивал головой. Я видел, что он с огромной жадностью слушает каждое сообщение. И про то, как в Крыму началась жатва, и про шахтёров, и про съезд каких‑то микробиологов. Потом передавали про заграницу, про войну во Вьетнаме.
Владилен Алексеевич слушал, смотрел на реку и острова. Лицо у него сделалось удивлённое и злое.
Я, наверное, понял, что он думал. Он думал: я умираю, а вы все остаётесь жить. Зачем же вы убиваете друг друга?
Может, про это он думал. А может, нет… Я подумал — про это.
В конце передавали прогноз погоды. Вот уж неинтересно слушать, где сколько градусов! А он слушал всё с таким же интересом. Диктор говорил:
«В течение первой половины июля сохранится жаркая, сухая погода. В последующий период циклон с юго–запада, рождённый над Атлантическим океаном, переместится на центральные области. Циклон будет сопровождаться сильными ветрами и ливнями».
Владилен Алексеевич посмотрел на меня. Я встал со скамейки и подошёл.
— Завтрашний ветер, — сказал он с трудом. — Это будет уже твой завтрашний ветер…
— Что он говорит? — громко спросил писатель.
— Завтрашний ветер, — ответил я. — Он говорит, что завтра будет дуть завтрашний ветер.
Писатель ничего не понял и повернулся к штурвалу.
А я понял. Только словами не мог бы складно сказать, что я понял. Я вспомнил и про Марс, и про Луну, и про то, что человек должен жить не меньше двухсот пятидесяти пет. И что я обязательно буду врачом.
Владилен Алексеевич посмотрел мне в глаза и снова улыбнулся. Он увидел, что я его понял.
Мы уже подходили к моим местам. Показался второй остров, а вдалеке пристань, плотина ГЭС.
Первым из знакомых, кого я увидел, была всё та же Наташка Познанская на яхте. Ветра в парусах не было, и она загорала на своей посудине. Ей‑то что? Ей и горя было мало!
Как мы причалили, как выводили на берег Владилена Алексеевича, как потом он ещё неделю руководил съёмками из автомашины — про всё это вспоминать не стоит.
Я уж не говорю про тот вечер, когда все они уезжали на аэродром. Владилен Алексеевич попросил, чтоб я обнял его, а я испугался заплакать. Мы стукнулись лбами, и я убежал. Вот и всё.
…Недели через три почтальон дядя Яша подъехал на своём велосипеде к нашему дому и сначала велел мне расписаться в толстой книге, а потом отдал большой пакет.
Там оказалась та самая тетрадь. И чья‑то записка.
В записке я прочитал, что Владилен Алексеевич перед смертью очень просил, чтоб тетрадь переслали мне.
Вот она.
Счастливые не от богатства,
росли мы на пыльных дворах,
всесветное
красное братство
лелея в ребячьих сердцах.
Хоть лет нам ещё было мало,
но красным клочком кумача
грядущее
нас обнимало —
вихрастых внучат Ильича.
Над карканьем толстых торговок,
как нашей мечты делегат,
всплывал,
невесом и неловок,
серебряный аэростат.
Как будто планеты прообраз,
парил он в лучах над землёй,
коммуны
высокую область
олицетворяя собой.
Рождалась,
откуда — не знаю,
горячая вера в груди,
что время нас не разделяет,
что Ленин
у всех
впереди!
Эх, едет всадник
в шапке со звездой!
Шевелит ушами
конь гнедой.
А всаднику только
четырнадцать лет,
у всадника только
комсомольский билет,
да ружьё за плечом,
да враги на земле,
да родной эскадрон,
и Ленин в Кремле.
Эх, едет всадник,
а завтра — бой!
Шевелит ушами
конь гнедой.
Рядом другие
лошади храпят —
красные конники
качаются в ряд,
качаются в ряд,
песню поют…
Думает всадник
думу свою:
а как через тридцать —
сорок лет
будет устроен
белый свет?
Как там ребята
станут жить?
За что бороться?
И с кем дружить?
Песне подпевает
всадник молодой.
Шевелит ушами
конь гнедой.
Эх, едет всадник,
а завтра — бой!
Дождь шумит
за окном во дворе.
Я смотрю
на зелёное дерево.
И зелёные струи
текут по стеклу.
Смотрю я на ржавые
мокрые крыши.
Красные струи
бегут по стеклу.
Взглянул я на серое
низкое небо —
серые струи бегут…
С градусника,
что привинчен к раме,
словно за градусом градус
падает
капля за каплей…
Сколько их?
Одна. Две. Три.
Четыре. Пять и шесть.
Вон
ещё летит —
седьмая!
Значит, не убили.
Значит, есть
поднебесье, облака и эта стая.
Удирают утки.
В высь летят,
крепко ими Север овладел.
Сколько на пути озёр!
Сколько на пути засад!
Сколько раз возьмут их на прицел!
Но летят.
Меж белых облаков
в небе синем семь небыстрых точек…
И —
не улетают далеко,
прилетают сниться
каждой ночью.