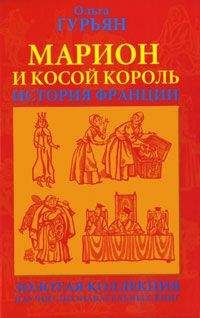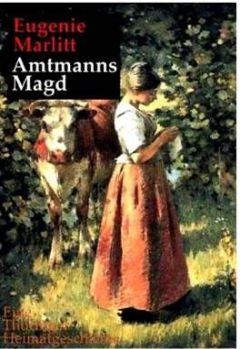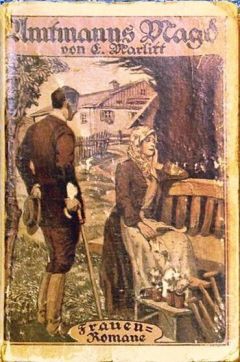Желтые огоньки в окнах погасли, но луна посеребрила влажные булыжники мостовой и резко выделила черные тени домов. То ясно освещенные лунным светом, то исчезающие во мраке, проходили мимо них запоздавшие прохожие. Но на площади Мобер встретилась им знакомая компания.
— Вы куда?
— Пугать толстопузых лавочников.
— И мы с вами!
Через мост мимо Малого Шатлэ, со стенами такими толстыми, что по ним может проехать повозка. Малое Шатлэ — настоящая мышеловка.
— Я слышал, что там есть двойная винтовая лестница, так хитро устроенная, что те, кто поднимается по одной из них, не видят тех, кто спускается по другой.
— Нам бы такую, скрываться от заимодавцев!
— От меня не скроешься, — сердито говорит Ка терина и крепче придерживает свой узелок.
Ей отвечают смехом.
Теперь они идут по старому городу мимо длинного угрюмого здания Отель-дье. Темно, тихо.
Зловонный ветер дует с востока, с пригорка Ханжей, городской свалки за собором Парижской богоматери. Франсуа, владелец трех рубашек, зажимает нос, и снова все смеются. Останавливаются на площади перед собором.
— Смотри, Катерина, ты нас не ставишь ни в грош, а вот видишь, даже на портале собора изображена наша мудрость.
— И вечно вы врете. Это статуи святых мучениц.
— Какая же ты дура! Это мы мученики, что приходится нам преодолеть семь свободных искусств, семь наук, пока достигнем мы благополучия. Смотри: эта старая женщина с розгой — это Грамматика. Сколько розог переломали учителя о наш зад! А это вот Риторика с книгой стихов.
— Ну уж ваши стихи! Одно сквернословие.
— Много ты понимаешь! Смотри: это Арифметика считает по пальцам.
— По пальцам и я могу.
— О замолчи, презренная! Не хочешь смотреть, пойдем дальше.
Возле моста Собора Богоматери студенты останавливаются и совещаются.
— Не лучше ли пройти набережной, а потом через Большой мост и мимо Бойни сразу выйдем на Большую улицу Сен-Дени, чем бродить по закоулкам, где ничего веселого нету?
— Около Бойни сторожит дозор лавочников и помешает нам пробраться в город.
— Разве нет у нас крепких кулаков? Разве нет кинжалов за поясом?
— Идем напугаем толстопузых!
— Идем!
На углу Большого моста четырехугольная башня дворца Палэ с часами, единственными во всем Париже, и время на них близится к полночи.
Тихо. Только слышен плеск воды в реке и топот шагов по мосту. Фонарь, подвешенный к изображению богоматери у ворот Большого Шатлэ, в двух шагах от Старой бойни, багровым светом освещает ватагу студентов, выходящих из-под длинного свода, и дозор благоразумно отступает в сторону, в тень стены.
Большая улица Сен-Дени. Горожане спят за запертыми дверями, за закрытыми ставнями в своих высоких кроватях, на пышных соломенных тюфяках. Под навесами домов, на пустых прилавках, на каменных ступенях спят бедняки. Ни одного прохожего.
Студенты опять останавливаются. Пугать некого, драться не с кем. Не возвращаться же домой, не повеселившись.
На ржавом крюке над их головами висит вывеска. Завив кольцами высоко поднятый хвост, прекрасная русалка серебряно блестит под луной — русалка Мелюзина из волшебной сказки. Крюк скрипит, Мелюзина качается, будто заманивает студентов, просит: возьмите меня с собой, мне скучно на пустой улице.
— Друзья, заберем ее с собой. Что ей торчать здесь на пустой улице?
Тотчас один из студентов, согнувшись, упирается ладонями в колени, а другой взбирается ему на спину и снимает Мелюзину с крюка. Протянутые вверх руки подхватывают ее.
Вблизи она не так уж красива. Краска кое-где отлупилась, чешуя на хвосте поосыпалась. Что с ней делать?
— А не устроить ли нам свадьбу, веселый свадебный пир? Вон напротив подходящий жених.
Напротив над бакалейной лавкой вывеска «Три восточных короля», и один из них молодой и в короне. Это будет жених, а другие два — свадебные гости.
— Друзья, снимай короля с крюка!
— Братцы, да он косой! Один глаз на нас, а другой за угол. Годится ли в женихи?
— Очень годится, — говорит белокурый студент-немец. — Очень хороший жених для мадам Мелюзины.
— Смотрите, как он похож на нашего Онкэна, — удивленно говорит совсем молоденький студентик. — Такое же страшилище.
Тотчас косоглазый студент награждает его звонкой затрещиной.
Все хохочут и кричат:
— Хороший, хороший жених!
Но что за пир, когда нет угощения? Студенты рыщут по соседним улицам, тащат пестрые деревянные картины, раскрашенные статуи, железные изображения — «Две семги», «Теленок», «Пеликан», «Два барана», «Петух». Пригодится «Котел» с улицы Старомонетной. Не поленились притащить и дребезжащую «Решетку для жарения» с улицы Штукатуров.
С песнями, с плясками тащат свою добычу.
Петуха в котел — о-ля-ля!
Теленка на стол — о-ля-ля!
Баран на решетке.
Нету, нету, нету соли ни щепотки,
О-ля-ля!
— Пляши, Мелюзина! Пляши, Катерина! Пляши, косоглазый король!
За запертыми дверями, за закрытыми ставнями мирные горожане просыпаются в ужасе.
— Бургундцы ворвались в Париж, всех нас зарежут!
Сквозь тонкие стены домов проникают дикие вопли:
— Пляши, пляши! Не жалей пятки!
Это всего только студенты веселятся. И успокоенные горожане, надвинув поглубже ночной колпак, снова забираются под одеяло.
Но уже королевский дозор, услышав непривычный шум, спешит верхом и пешком забрать ночных гуляк.
Не тут-то было!
Студенты дозору не подвластны, парижскому прево не подсудны, в тюрьму Шатлэ их не посадишь. Судить и наказывать их может только университет. И, схватив Мелюзину за хвост, студент с треском опускает ее на голову сержанту, и Мелюзина рассыпается в щепки, а сержант вытаскивает меч из ножен, и начинается битва.
Все идет в ход — кулаки, кинжалы, и котел, и решетка для жарения, и два барана, и три короля. Не проходит и нескольких минут — улица усеяна обломками вывесок, раненого сержанта ведут к цирюльнику перевязать голову, студент-немец убит, остальные разбежались.
Королевский дозор с торжеством уводит взятую в плен Катерину.
— Дураки вы все! — рыдает она. — Какое вы имеете право? Я на студентов стираю. Я на вас жаловаться буду.
— Сама ты дура, — утешает ее сержант. — Из-за пустяков слезы роняешь. Переночуешь одну ночку в тюрьме, ничего с тобой не сделается.
И действительно, ничего с ней не сделалось. На другое утро шла она к себе домой, на улицу Прачек, одну руку уперев в бок, а другой поддерживая на голове смятый и испачканный узелок с двумя рубашками.
Но для других, совсем незнакомых ей людей эта развеселая шутка кончилась очень печально.
Глава пятая ДОБРЫЙ ГРОТЭТЮ
Однажды в начале лета стражник пришел за Марион утром, в неположенное время, и сказал:
— Прощайся со своими подружками. Больше ты сюда не вернешься.
Марион так испугалась, сразу ослабела от страха, даже сообразить не могла, зачем за ней пришли, куда поведут, будут пытать или сразу выставят к позорному столбу, или случится с ней такое ужасное — и подумать об этом свыше сил! — лопата роет глубокую яму. Для нее…
Она спросила дрожащим голосом:
— Куда вы меня поведете?
— А вот увидишь, — сказал сержант и засмеялся. — Прощайся скорей, тебя ждут.
Тут все женщины окружили Марион, стали плакать над ней и причитать:
— Такая она еще молоденькая, а видно, пришел ей конец.
— Мой кошелек, — растерянно оглядываясь, проговорила Марион. — Возьмите его себе, добрые женщины. Уж он мне не понадобится.
Вот она пошла, а стражник шел следом, поддерживая ее, чтобы она не упала.
Стражник привел ее к тюремщику, а тот сидел, держал в руке какую-то бумагу и, увидев Марион, сказал:
— Прощай, малютка. Надеюсь, тебе здесь не плохо было. Иди и больше не попадайся.
— Я не понимаю, — прошептала Марион.
— Что же тут понимать? Свободна ты идти на все четыре стороны. Вот письменный приказ отпустить тебя.
Но Марион, все еще не веря, повторила:
— Я не понимаю.
— Эх, — сказал тюремщик. — Все тебе объяснить надо, а дело совсем простое. Недавно поймали с поличным одну воровку — Толстую Марго. На суде выяснилось, что это не первая ее кража, а уже несколько лет она этим промышляет. Как полагается по закону, ее присудили к казни. Тут она стала сокрушаться и каяться, призналась во многих своих преступлениях и рассказала, что прошлой осенью украла чепец у белошвейки на Малом мосту, а вину свалила на тебя, стоявшую рядом, а ты в этом деле не повинна. Ее казнили, а тебя приказано освободить. Теперь поняла?
Когда Марион вышла из ворот Шатлэ, отвыкшие ходить ноги едва дртащили ее до улицы Сен-Дени. Она шла, опустив глаза, стыдясь своего запачканного платья, из которого за зиму успела вырасти, своих волос, расчесанных пятерней — гребешка не было, своего неумытого лица. Какой же, наверное, у нее непристойный вид!