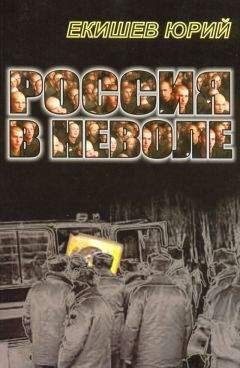— Новости, как птицы, — двусмысленно объяснил заметно взволнованный начальник полиции, — не знаешь, с какой стороны прилетят.
И Сокальский подробно рассказал о том, как гневался на него шеф.
— Теперь вам, Иван Ефимович, все известно. Давайте вдвоем спокойно и обсудим.
— Мы не знаем, — ответил Божко, — где спрятан и тайно тлеет огонь, зажженный большевиками. Но когда он стремительно, с силой вырвется наружу, такой пожар будет уже потушить нелегко.
Потом, немного помолчав, снова заговорил:
— Сельские управы представили подробные списки красных активистов. Они не у вас?
— Да, у меня. Ну и что? Не можем же мы вот так просто их всех уничтожить.
— Дорогой Михаил Кононович, родненький! Настало именно то самое время, когда людей необходимо пропустить через густое сито. А пока вы будете собираться, они объединятся, создадут свои ударные подпольные группы и выступят против нас с оружием в руках. Вам нужны доказательства? Запомните: хватит подозрения. Главное — побольше захватить в наши сети. Там обязательно будут и виновные. Знайте: они уже готовятся к боевым, организованным выступлениям. Кстати, они кое-что замышляют заодно и против вашей особы. Вас должны повесить… за ноги!..
Сокальский побледнел. Вытерев рукавом густой пот со лба, он попробовал улыбнуться:
— Неужели за ноги? Откуда вам такое известно?
— Эх, родненький, мир слухами полнится. Теперь всякое жди. А выступить, по моим сведениям, они собираются седьмого ноября. Будут обязательно листовки, взрывы, и перестрелка, ну и, конечно, красный флаг на тополе возле железнодорожного разъезда. Потому и тихо сейчас в селах, что комиссары силы против нас собирают.
— Что же нам делать? Мы ни в коем случае не должны допустить их выступления.
— Можем, Михаил Кононович. И даже должны сделать так, чтобы ускорить этот шаг!
— Да вы что?! — вспыхнул Сокальский и выскочил из-за стола.
А Божко спокойно и вкрадчиво:
— Скажите мне, родненький, есть ли у вас в районе надежный человек, по-настоящему верный и до конца преданный вам? Человек, который, получив от вас приказ, никому, даже немцам, не скажет ни слова.
Сокальский задумался.
— Есть, — не сразу ответил он. — В прошлом году в Ольшанице завербовал. Шагула его фамилия. В тюрьме сидел за убийство жены. Имейте в виду, я его берегу для своего дела.
Божко вскипел:
— А я для кого предлагаю? Для тещи?
— Да вы не сердитесь, к слову пришлось…
— Сколько еще осталось дней до той годовщины?
— Девять.
— Достаточно! Сегодня же вызовите своего «надежного человека».
— Но это невозможно, здесь его никто не должен видеть.
— Где вы с ним встречаетесь и куда надо ехать? Говорите быстрее.
— В Синяве. На сахарный завод, — нехотя признается начальник полиции.
— Хорошо. Итак, план операции…
Божко поспешно взял лист бумаги, склонился над столом и вдруг перешел на шепот.
Сокальский слушал его внимательно.
— А если не сознаются? — неожиданно перебил он Ивана Ефимовича.
— Петь будут, когда мы заиграем, — довольный своей остротой, рассмеялся Божко. — И обязательно затанцуют под нашу музыку.
— А не много ли?
— Жалеть никого не надо. Кто нас жалел? Без больших жертв не может быть добрых дел, — нарочито грустно заметил следователь.
Со стены подозрительно смотрел фюрер. Смотрел день и ночь, не смыкал глаз, словно стоял на страже. Сокальский и Божко чувствуют на себе этот взгляд.
— Так, Иван Ефимович, так… — сказал Сокальский. — Значит, по-вашему, нам надо немедленно действовать, чтоб не потерять доверия пана гебитсполицайфюрера?
…К зданию районной полиции съезжались полицаи. Приехали из Винцентовки, Ольшаницы, Насташки… Раскрасневшиеся, пьяные, верхом и на подводах. Горланили похабные песни, стреляли собак, угрожали крестьянам. Потом собирались во дворе группами, дымили самосадом, гадали, в какой лес поедут ловить партизан. Вечером всех их собрал начальник. Он был немногословен.
— Имейте в виду — до большевистского праздника осталось всего два дня. Имеются точные сведения о вооруженном выступлении подпольных групп. Уже сегодня ночью в некоторых селах появятся листовки. Сейчас отдыхайте, чтобы в любую минуту быть готовыми выполнить свой долг. Не забывайте, что враг не дремлет и надо быть всегда начеку! Самогон пить запрещаю. Закончим операцию — тогда вволю погуляем.
Пропели вторые петухи, упала на землю холодная роса.
Хрустнула под ногами ветка, зашуршала листва, и неясная, плохо различимая в темноте фигура появилась около железнодорожного полотна. А потом промелькнула через огороды на погост. По осторожной, но тяжеловатой поступи чувствовалось: мужчина. Шел, как кот по колючей стерне: внимательно, неторопливо… На погосте, под грушей, ночной гость устало прилег на землю. Не иначе как отдыхал. Минут через десять встал и перебрался через канаву. Если бы сейчас кто-нибудь наблюдал за ним, то увидел бы, как он вышел к мосту, остановился у вербы и долго прислушивался к ночным шорохам…
Затем быстро свернул на Загреблю. На середину улицы не выходил, держался ближе к забору. Остановился возле ворот и, достав из кармана кусок ржаного хлеба, долго, не глотая, жевал его. Потом из другого кармана вытащил лист бумаги и, сдобрив его жеваным хлебом, аккуратно прилепил на забор. Прислушался и пошел дальше, легко взбираясь на гору. Возле общинного хозяйства снова наклеил такой же лист бумаги на сарае и через Ковалевскую долину лениво побрел в Городище.
За Дроботовым оврагом посмотрел в сторону, где росла старая корявая ольха. Сразу насторожился: сверкнули два огонька.
«Лисица!» — мелькнула мысль.
Вдруг ночь разорвала молния. Мужчина медленно начал оседать на мокрую некошеную отаву. Теплая струйка крови потекла по виску, подбородку, за воротник.
Из-за ольхи поднялись двое. Молча подошли к мужчине, склонились над ним, прислушались.
— Готов, — через минуту сказал один из них. — Давай на лошадей!
— Ну откуда могли знать, что этот, — и он ткнул сапогом еще теплое тело, — пройдет именно здесь? — удивленно вслух рассуждал второй.
— Не твоего ума дело. Меньше будешь знать — больше проживешь, — простуженно прохрипел первый.
Вскоре по оврагу глухо застучали подковами кони, пока снова все не стихло…
Бабе Федоре не спалось на печи. Всю ночь с боку на бок переворачивалась, жалась к теплу, то и дело повторяя шепотом:
— Ох, грехи наши тяжкие… На седьмой десяток перевалило, а такого еще не видывала. Учил когда-то святой батюшка, что покарает господь бог всех нас, грешных. Нагрянет антихрист, и не будет тогда никому прощения — ни старому, ни малому… Правду говорил. Пришел-таки он, и сколько пролилось слез людских… А крови!.. И сколько еще прольется…
На рассвете слезла с печи, заглянула в кадку, что стояла на лежанке, — еще с вечера поставила квашню.
«Пора и печь растапливать, — подумала. — Может, до завтрака и управлюсь».
Засучила рукава старой кофты, помыла руки и долго вымешивала тесто.
Как высадила хлеб в горячую печь, так и присела на скамью, стала смотреть в окно.
На дворе серый, усталый рассвет. По улице, по направлению к общинному двору, не торопясь, поодиночке друг за другом тянутся люди. Идут на работу: кто с батогом, кто с лопатой, кто с мешком под мышкой. Останавливаются по дороге возле ворот, заглядывают в ее, Федоры Прылипко, двор и снова идут дальше»
«Чего они там увидели?» — подумала старуха, задумчиво глядя им вслед.
С трудом вышла во двор, обошла вокруг избы.
Нет никого.
Выглянула на улицу: на заборе висит лист бумаги, вырванный из ученической тетради, а на нем красным карандашом что-то написано. Подошла поближе, а прочитать не может. Сняла с забора. Может, какое озорство написано?
Видит, улицей идет сын Ирины Бучацкой.
— Володька! — окликнула мальчугана старуха. — А ну прочитай-ка, что здесь написано.
Подошел Володя, прочитал:
— «Дорогие товарищи! С праздником вас, родные, с праздником Октября! Скоро будет свобода. Смерть фашистам. Боритесь, победа будет за нами!»
Оглянулся мальчишка, потом тихо спросил;
— Бабушка, где вы это взяли?
— Да на заборе висело, сынок, на заборе.
— А кто прилепил? — допытывался мальчуган.
— Почем я знаю! — недовольно ответила старуха и тоже огляделась вокруг. — Ты лучше отсюда уходи поскорее…
Баба Федора быстро спрятала за пазуху листовку и пошаркала в хату. Достала ее, развернула на столе, разгладила шершавой ладонью, взглянула в угол на икону, трижды перекрестилась и уже в который раз принялась читать свою спасительную молитву. Потом склонилась над квашней, выскребла оттуда немного теста, смазала оборотную сторону листовки и вышла на улицу. Оглянулась, нет ли кого, листовку быстро приклеила на забор.