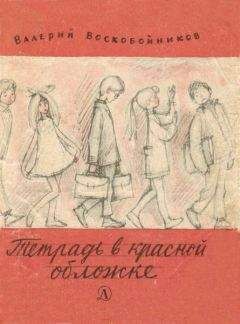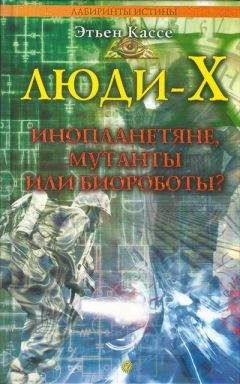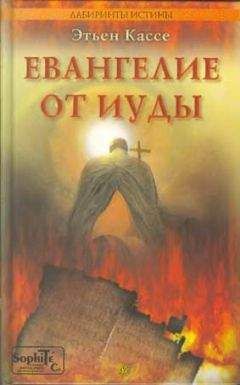— У тебя предложение, Витя? — спросила Наталья Сергеевна.
— Да. Я предлагаю в совет отряда Машу Никифорову.
— Молодец, Витя, — отозвалась с задней парты Светлана, — очень хорошая кандидатура.
А Ягунов сел и снова от меня отвернулся.
— Я тоже Машу предлагаю, — сказала Наташа Фомина.
— И я, — сказал Звягин, — я тоже Никифорову. Я её предлагаю председателем. Она справедливая.
— Это как новый совет решит, — сказала Светлана.
А я сидела и молчала. Водила пальцем по парте, глядела на этот палец и молчала.
Меня выбрали единогласно. Только я сама не голосовала. Даже если б и можно было, я бы всё равно не стала голосовать, потому что я хотела в санитары или в звеньевые, председателем совета отряда — боюсь. И наверно, не справлюсь, потому что это трудно.
Ещё в совет отряда выбрали Авдеева и Звягина.
Потом все пошли домой, а мы — совет отряда и звеньевые — остались. И я с первой своей работой уже не справилась.
— Какие у вас будут предложения, чтобы жизнь отряда сделать интересной и увлекательной? — сказала Светлана.
И все стали предлагать, кто что придумал. А я молчала — ничего не смогла предложить.
— В кукольном театре мы давно не были, — сказала Наташа.
Я подумала: «Правильно, в театр надо сходить».
— Можно сбор устроить «Кто кого пересмеёт» и ответственным сделать Федоренко, — предложил Звягин.
И я подумала: «Точно». И только потом, когда я подходила к дому, я напридумывала разные интересные вещи, а главное — я же про бабушку Феодосию не рассказала.
* * *
Когда я вошла в квартиру, мама была на кухне. У неё там жарился лук и варились макароны.
— Ты что улыбаешься? — удивилась мама.
А я продолжала улыбаться. Мама тоже заулыбалась и спросила:
— Пятёрок, что ли, наполучала?
Я снимала пальто и улыбалась.
— Что случилось?
— Меня выбрали председателем? — Я всё время улыбалась.
— Ого! — сказала мама.
Но у неё на сковороде стал пригорать лук, и она сразу отвернулась к плите.
Я сидела в комнате и переживала, вспоминала, как меня выбрали.
— Ты правду сказала, — спросила мама, — или ты пошутила?
Потом я готовила уроки, но всё равно часто думала про сбор. И про Ягунова, как он меня предложил.
Вечером из заочного института приехал папа.
— Кто здесь председатель? — сказал папа прямо от двери.
Он уже всё знал. Ему рассказал Наташин отец.
Папа выложил на стол коробку с пирожными. Там были мои любимые «эклеры» и мамины вафли. А сам папа ест любое пирожное, какое дадут.
— Надо бабушке написать, — сказала мама, — пусть порадуется.
— Это всё хорошо, — сказал папа, — только ведь нужно работать. Вот я, когда был председателем, меня чуть не выгнали из школы. Потому что я решил отрабатывать смелость и свой отряд повёл на крышу. Мы решили обойти всё здание по крыше.
Мы ещё долго сидели все вместе, пили чай, и папа рассказывал смешные истории.
* * *
За эти дни много всего случилось. Я лежу больная. Но сегодня у меня голова болит меньше и температура только тридцать восемь.
Мама сейчас в другой комнате, а я потихоньку, чтоб она не слышала, встала, вытащила из портфеля дневник, лежу и пишу.
В воскресенье мы с папой поехали на лыжах. Как собирались. Все дни шёл снег, и мама говорила: «Теперь потеплеет».
Но не потеплело, а стало, наоборот, холоднее. Снег идти перестал, а потепление так и не пришло. Мы с папой поехали на трамвае. Лыжи везли с собой, на площадке. Этот трамвай идёт за город. Там уже ездят электрички, а он всё равно идёт, иногда рядом с ними.
Потом мы сошли на кольце, надели лыжи и двинулись в лес. У папы был большой рюкзак за спиной. В рюкзаке — термос с горячим чаем, разные бутерброды, которые сделала нам мама, и тонкое одеяло. Сначала это был не лес, а обыкновенный парк, но потом он незаметно стал лесом. Мы ездили по просекам, катались с маленьких горок, а папа четыре раза съехал с большой, там, где трамплины. Людей вокруг было немного. Это было первое воскресенье, когда выпал снег, и, наверно, не все ещё приготовили лыжи.
Потом папа утоптал в одном месте сугроб, разостлали одеяло, и мы с ним ели. Бутерброды были холодными, а чай — горячий, и зубам делалось то горячо, то холодно.
А потом мы поехали дальше по просекам. По сторонам стояли большие ели, на ветках лежали глыбы снега. Эти глыбы иногда падали от тяжести, и на несколько минут поднималась метель.
Потом вдруг небо быстро потемнело и пошёл уже настоящий снег, не с елей. И подул сильный ветер.
— Давай-ка возвращаться, — сказал папа.
Мы свернули на просеку, которая шла вбок между низкими густыми кустами.
— Быстрей по ней доберёмся.
А ветер совсем уже дул навстречу. Дышать уже было трудно. Папа взял меня на буксир. Зацепил мои палки, и за один конец я держалась, а за другой он меня вёз. И всё равно стало холодно. Ещё я упала два раза — и пришлось вытряхивать снег. А ветер всё дул. От него замёрзли даже лоб и щёки.
Мы ехали по просеке долго, а потом свернули на другую и заехали неизвестно куда, где уже ни лыжни, ни следов, ничего не было, только кусты со всех сторон и снег.
А я так замёрзла. У меня зубы сами стучали друг о друга. И идти я совсем уже не могла. Я изо всех сил терпела, чтобы папа не подумал, что зря он связался с девчонкой. А потом я вдруг снова упала. И так не захотелось мне вставать. Но папа меня поднял, начал отряхивать и вдруг услышал, как я стучу зубами.
— Давай-ка попрыгай. Попрыгай, попрыгай, — сказал он мне.
Взял меня под мышки и стал подбрасывать, но у меня ноги даже не сгибались, так я устала и замёрзла.
— Влипли мы с тобой.
Он снял рюкзак, вытащил одеяло и сказал:
— Снимай лыжи.
А я не поняла, зачем он мне это сказал, ведь крутом снег и нет дороги, но всё-таки нагнулась. У меня ещё выкатились несколько слезинок, но это не оттого, что я хотела плакать, а просто сами собой выкатились. Пальцы мне было никак не согнуть, папа лыжи снял с меня сам. Он связал мои лыжи вместе с палками, потом закутал меня всю в одеяло, поднял на руки и пошёл.
Он несколько раз повторял:
— Прижимайся теснее, теснее прижимайся.
А я хотела сказать, что пойду сама, потому что ему тяжело, но мне было никак не выговорить ни слова, я только стучала зубами. Потом он сказал:
— Молчи, выберемся с тобой.
Мне и правда стало теплей. Я закрыла глаза и даже не помню, про что думала. Только слышала, как папа громко дышал. Один раз он поменял руки. Поправил на мне одеяло. А я подумала, что он меня, значит, любит, если вот так спасает и заботится обо мне.
И вдруг он сказал:
— Всё. Слезай.
Вздохнул, откинул у меня с головы одеяло и поставил на ноги.
Мы были уже близко от остановки. Папа снимал лыжи, а я стояла рядом, и мне было никак не шагнуть, потому что затекла одна нога.
Потом нога прошла, мы пошли к остановке, а папа оглядывался и повторял:
— Кофе бы горячий или бы чай.
Но как раз подъехал трамвай, и мы сели. В трамвае я снова начала стучать зубами, так что две тётки рядом несколько раз на меня оглянулись. А папа успокаивал:
— Немножко, видишь, уже большие дома. Сейчас приедем.
И только мы пришли домой, он сразу поставил чайник.
Потом мама натёрла меня водкой, и ноги я грела в горячей воде, и чай пила с малиной.
Я легла спать, и было так тепло и хорошо. Я лежала, улыбалась и слушала, что там папа рассказывает маме про сегодняшний день, как мы выбирались. И думала, какой у меня папа хороший и мама тоже хорошая. Потом я заснула. А когда проснулась, было уже, наверно, поздно, но папа не спал. Он сразу вошёл и спросил:
— Ну как, ничего?
И повёл в кухню ужинать.
Есть мне совсем не хотелось. И голова вдруг так сильно заболела, и стало холодно, даже зубами я опять застучала. Я опять легла в кровать. Мама принесла градусник. Потом, когда мама его вынула, она взглянула на него и дала папе. Папа посмотрел и сказал:
— Ого!
Мама сразу принесла две таблетки. А я не умею их глотать, а жевать тоже противно, потому что они горькие. Папа налил в чашку сладкого чаю, и я эти таблетки запила.
— Постарайся заснуть, — сказала мама и погасила свет.
Они говорили и стучали на кухне чашками и ходили мимо комнаты. И от каждого стука, даже от шагов делалось больно в голове.
Мама снова вошла в комнату и зажгла свет. И от света тоже стало больно. Она увидела, что я не сплю, и сразу вышла.
Но они ещё долго ходили по квартире.
* * *
Ночью я проснулась, смотрю, на полу стоит настольная лампа — и от неё слабый свет. И мама с папой сидят на стульях рядом со мной и на меня смотрят. Не спят всю ночь и всю ночь на меня только смотрят. И мне вдруг так захотелось смеяться: вот они как меня любят.
Потом я снова проснулась уже под утро. Папа по-прежнему сидит на стуле рядом со мной и спит сидя. Но он сразу, только я на него посмотрела, поднял голову и открыл глаза. И дал мне градусник. Потом вошла мама. Она села на стул, где был папа, и просидела, наверное, до самого утра. А утром не пошла на работу и вызвала врача.