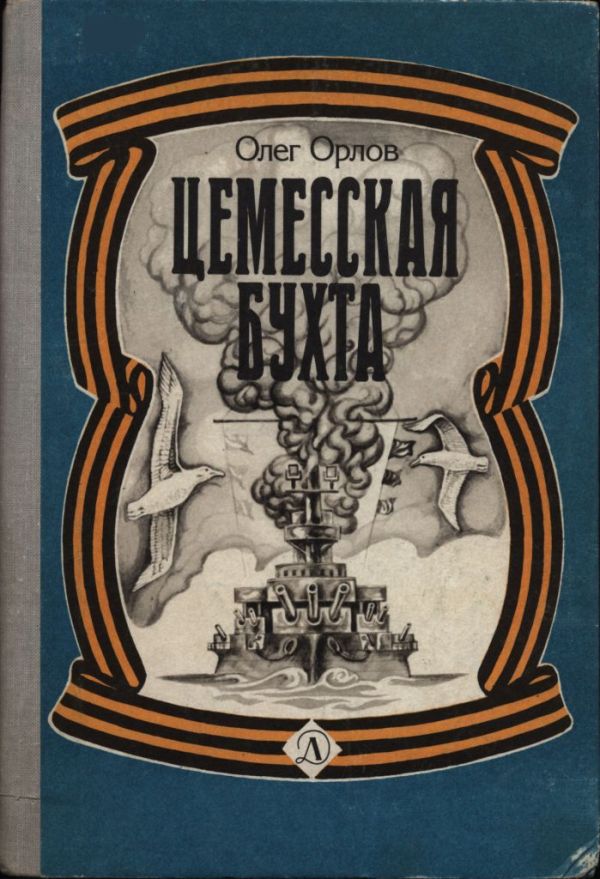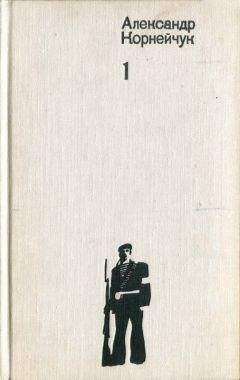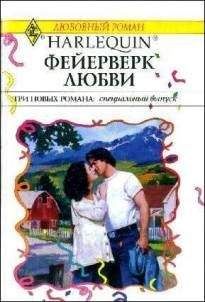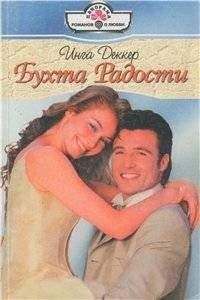лицо и шею.
Потом мы поднялись и пошли к памятнику-стеле.
Ветерок, чуть тянувший с бухты, сник, и начало припекать. Харитон жаловался на одышку, так что мы брели тихо-тихо, а я все оглядывался на пушку, уткнувшуюся стволом вниз, и на окопы, которые с годами, наверное, совсем осыплются, сгладятся и затеряются в травах.
А пока мы медленно шли, Осадчий-младший отбегал то влево, то вправо в поисках реликвий войны, пока не подбежал, наконец, к нам и не показал на раскрытой, потной, грязной от земли ладони два осколочка от гранаты-лимонки.
Потом мы бродили по Новороссийску и Харитон показывал нам с Мишкой разные памятники — и командиру десанта майору Цезарю Куникову, и тот, Неизвестному матросу, и даже — на каменной крутой волне — большой, настоящий торпедный катер… И тут я вспомнил про вагон, который видел еще тогда, в первую поездку. Харитон знал и про вагон. Это тоже был памятник — остов вагона, пробитый пулями и осколками. Он был поставлен на последнем рубеже обороны Новороссийска, на том месте, дальше которого фашистов ни на шаг не пропустили…
Мы расстались только к вечеру, но зато как давние-давние и хорошие знакомые.
— А знаете, — сказал я Харитону, — я ведь, в сущности, как бы давно с вами познакомился. Несколько лет назад.
— Как так? Чего ж я вас не упомню? У меня память на людей цепкая.
— Да нет, видел я ваш водолазный костюм. В музее.
— Ах, это… — сказал Осадчий. — То пустяки. Костюм старый. Для работы уже не годится. Я его в музей и отдал. Просили… Подумаешь, музейная ценность…
— Вы нам в Одессу пищите, — сказал Мишка. — И приезжайте. У нас в городе тоже много всего интересного.
И на прощанье Мишка подарил мне один из найденных осколков от лимонки. И это был настоящий подарок! Осколок с Малой земли…
Глава семнадцатая, ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ
Вернувшись в Ленинград, я попытался узнать что-нибудь относительно Ивана Лепешкина. Но узнал только то, что он, будучи в 1915 году после суда над гангутцами осужден на каторгу в числе тех двадцати пяти матросов, с каторги через полгода бежал. Верные люди помогли ему перебраться за границу.
И все. Больше об Иване Лепешкине, матросе с «Гангута», ничего не было известно. В Россию он после 1916 года не возвращался.
Глава восемнадцатая. ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД
Быстро летит время. Я и не заметил, как прошло больше года. И настала осень.
«Думаю, что теперь Вы сможете услышать конец давно интересующей Вас истории, — написал мне Петр Петрович. — Да и вообще, навестите старика».
А в конверте был засохший лист винограда.
Ах, как мне захотелось поехать! Снова увидеть голубую Цемесскую бухту. Пройти по ее берегам. Увидеть горы, сиреневые на закате. Услышать снова голос Петра Петровича, сесть в глубокое кресло в его кабинете. Я даже по невоспитанному Федьке соскучился и по его болтовне.
Взял я отпуск на неделю и поехал.
В день моего приезда в Новороссийск задул сильный ветер, который местные жители называют бора.
Между двух самых высоких гор заклубилось вдруг серое облако. Облако быстро сползло вниз, и ветер, словно прицеливаясь, ударил несколько раз по зеленой глади Цемесской бухты и погнал короткие волны на пристань, на мол, на набережную.
Потом сыпанул дождь и бора задул по-настоящему.
Ночью в гостинице я несколько раз просыпался и слушал, как беснуется ветер. По крыше стучали и скрипели ветки деревьев, и казалось, что неведомое чудовище цепляется когтями за дом и хочет опрокинуть его или хотя бы сорвать крышу.
Где-то рвало и трепало лист железа. Где-то хлопала фанера. Где-то звенело вдруг разбитое стекло.
Но уже к вечеру следующего дня, когда я направлялся знакомыми улочками к домику Петра Петровича, ветер стих. Только осыпавшиеся в садах яблоки да сломанные цветы в палисадниках говорили о прошедшей ночи.
Зато бора начисто подмел мостовые — все до последней соломинки и бумажки.
— Залп всем лагом! — приветствовал меня Федька.
— Вам повезло, — сказал Петр Петрович. — Бора дул всего одни сутки. Это бывает редко. Обычно, если бора не кончает дуть в один день, он дует три дня. Не два, а именно три. Или шесть. Или девять. Или двенадцать. Но не будем отвлекаться. Итак, мой друг, известный уже вам Харитон Осадчий, как и обещал, разыскал-таки в Одессе кочегара с «Воли». Кочегара по фамилии Карнаух.
Я хотел было сразу связаться с вами, но подумал, что времени терять нельзя: кочегару шел восемьдесят шестой год. И как сообщал Осадчий, старик уже плохо слышит, да и видеть стал худо. А тут пока бы я вам писал, да пока бы письмо шло, да вы бы раздумывали, с чего начать, — и узнавать было бы не у кого. Так, впрочем, и случилось: через два месяца после того, как Карнаух ответил мне более-менее обстоятельно, он, к сожалению, умер… Что делать, все мы смертны… Н-да… Но вспомнить он успел кое-что любопытное.
С этими словами Петр Петрович положил передо мною обыкновенную ученическую тетрадь, на розовой обложке которой корявым почерком было выведено:
НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДАВНИХ ГОДАХ, ЗАПИСАННЫЕ ИВАНОМ КАРНАУХОМ, КОЧЕГАРОМ С ДРЕДНОУТА «ВОЛЯ», В г. ОДЕССЕ, ПО ПРОСЬБЕ КАПИТАНА ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА В МАРТЕ — АПРЕЛЕ СЕГО ГОДА.
— Читайте, — сказал Петр Петрович. — Карнаух писал все это, отвечая на мои вопросы. Отсюда и некоторая непоследовательность его изложения.
И я начал читать.
«С Новороссийска мы на «Воле» снялись ночью в Севастополь. За нами в кильватере пошел «Георгий Победоносец», за ним крейсер «Кагул», а потом и эсминцы и транспорты.
Я, конечно, не думал, что жизнь моя после этого двинется в худшую сторону, а то бы лучше остался в Новороссийске. Мы тогда не понимали, что обратного пути уже не будет. Но дело было сделано. Я в ту ночь на вахте у топок как раз не стоял, а был свободен и был на верхней палубе.
Когда мы проходили мимо миноносца «Керчь», который стоял при выходе возле бонового заграждения, была у нас боязнь, что с «Керчи» саданут нам в борт миной, но, слава богу, «Керчь» мы миновали благополучно. Вслед же они нам просигналили фонарем: позор, мол, вам, изменникам… И вправду, чувствовали мы себя если еще тогда не изменниками, но убегавшими шкурами, о чем между собой на палубе матросы «Воли» говорили.
И верно, потом «Воля» наша побывала в разных руках, точно худая кобыла… Послужили мы и немцам, и французам, и Деникину, чтоб