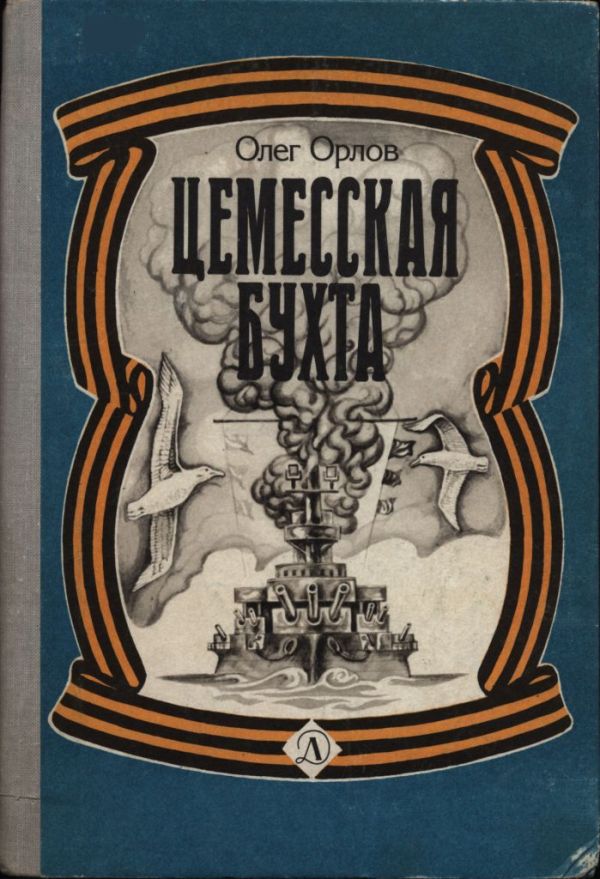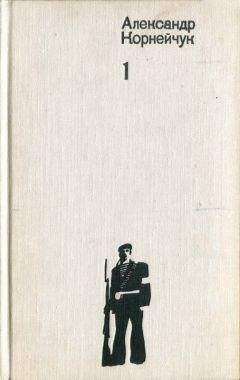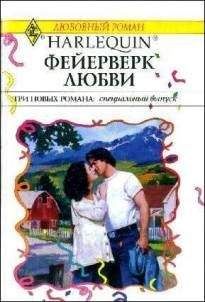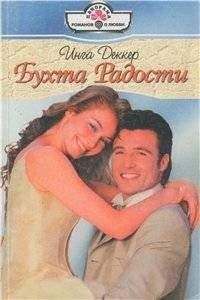его и имя не вспоминать, и даже барону Врангелю. Врангель в 1920 году увел дредноут вместе с другими кораблями эскадры сперва в турецкий город Константинополь, а потом приткнулись мы к Северной аж Африке, в городе Бизерте. Здесь поставили наши корабли на прикол. Тут-то и начались новые наши беды и мытарства. Никому мы там не были нужны, в чужих краях. Языка не знали. Денег не было. Кто пристроился швейцаром, кто сторожем, кто шофером, кто и посудомойкой — лишь бы с голоду ноги не протянуть. Мне еще повезло, и взяли меня в портовую кочегарку.
С эскадрой в Бизерту пришло русских моряков около пяти тысяч человек. И многие так в Бизерте и остались, никуда не поехали дальше, потому что боялись, что попадут в места еще глуше и хуже. А еще нам казалось, что здесь, рядом с кораблями, у нас остается какая-то надежда. А вернее-то, крохи надежды. И даже вовсе никакой. Но корабли нам казались частичкою России. Хотя какая Россия? Даже русских флагов над кораблями уже не было. Власти велели убрать. Топки были погашены, электричества динамо-машины не давали, и стояли корабли, как пустые гулкие железные гроба… Но все-таки они были рядом, эти корабли…
Офицеры — те устроились получше. Кое-кто и языки знал, и работу нашел почище, и хорошие места. А кое-кто увез из Одессы и деньги и кой-какое золотишко.
Помню ли я унтер-офицера Константина Саввича Каргина? Да, помню. В Бизерте его знали многие. Работал он там в ресторане «Голконда» — играл на большой трубе. Знали же его многие потому, что Каргин занимал морякам кое-какие суммы — под проценты. То есть занимался ростовщичеством. И многие у него брали…
Раз в году у нас в Бизерте происходил, если так можно назвать, парад. В порту перед кораблями собирались все наши с эскадры. Все экипажи. Было и немало зевак. Еще бы! Парад русских моряков!
Из матросских сундучков или там из офицерских саквояжей извлекалась сберегаемая годами форма, завернутые в суконку кресты да медали, кортики офицерские да боцманские дудки. Все мы выстраивались во фронт по ротам, по названиям кораблей. Где «Дерзкий», где «Жаркий», где «Пронзительный»… Эти названия ничего не говорили местным жителям, а для нас-то это была наша прежняя жизнь.
Для нас это был единственный в году праздник. И быть может, один только этот день мы и ощущали себя русскими…
Экипажи выстраивались за экипажами и на правом фланге, как и полагалось, стоял оркестр с нашего дредноута «Воля». И Каргин в тот день всегда был при оркестре, со своей большой трубой.
Как же проходил наш парад? В Походной часовенке судовой поп отец Николай служил молебен. Наступала торжественная минута, и перед всем фронтом выходил наш адмирал — толстый и важный, с седой бородой во весь мундир. Он снимал с лысой головы фуражку, крестился на походную нашу часовенку, фуражку надевал и давал знак офицеру начинать парад. Оркестр играл царский гимн, и мы все — экипаж за экипажем, ряд за рядом — проходили мимо адмирала, отца Николая и оркестра… Мимо толпы зевак. Мимо своих кораблей…
И так повторялось год за годом.
Конечно, нас, моряков, становилось все меньше. Кто в конце концов срывался с места и уезжал в другие страны в поисках лучшей доли. Кто умирал. Кто пропадал неизвестно куда…
Одежда оставшихся, у нас то есть, год от году ветшала. Серебряные медали подчас отправлялись в заклад, а то и продавались на бизертинской барахолке.
Но все-таки наступал день, и выстраивались остатки экипажей, и оркестр на правом фланге, и большая медная труба того самого Каргина была, как всегда, на месте. Адмирал унтера отличал и знал лично. И, оглядывая редеющие наши ряды, он при виде большой блистающей трубы всегда оживал, светлел лицом и как бы набирался бодрости. И давал знак начать парад…
Но в поздние годы это было уже довольно жалкое зрелище. Потому что нестройным шагом проходили мы, поседевшее, иссохшее воинство, в белых-белых от стирки, а некогда синих, как море, матросских воротниках, во фланелевках, подколотых кое-где английскими булавками. Кто в сапогах по форме, а кто — увы! — и в штиблетах да башмаках.
И только неизменно вились за плечами нашими ленточки бескозырок.
Но вот случилось событие, прошедшее, впрочем, тогда незаметно. В 1936 году был убит тот самый, которым вы интересовались, унтер-офицер Каргин. Вроде бы подозревали убийство с целью ограбления, потому что, как я говорил, он был человек со средствами. На следующий день уголовная полиция Бизерты арестовала моряка с проходившего рейсом из Австралии трампа — так называют суда-бродяги, развозящие грузы из порта в порт по всему свету. Моряка этого опознал случайно в день убийства Каргина один нищий-попрошайка.
Как раз началась война в Испании, когда фашисты напали на республиканцев, и дело то с убийством унтера Каргина забылось за новыми газетными сообщениями. Но для нашего ежегодного празднества, как вы сейчас увидите, это сослужило плохую службу. О чем я и расскажу также…
Потому что в тот же год, когда наш адмирал, еще более согнувшийся за эти годы, как всегда, справился, на месте ли в оркестре большая бас-труба, ему отвечали, что унтер-офицер его императорского величества флота Российского Каргин преставился…
— Как — преставился? — спросил адмирал.
— Так и преставился. Помер. И уже похоронен. И заменить его в оркестре некем совершенно.
Вот как доложили нашему адмиралу.
И тогда адмирал как-то неопределенно махнул рукой, повернулся и, еще больше сгорбившись, пошел почему-то прочь от нашего строя и кораблей.
Все мы недоумевали. Мы стояли и ждали, что он вернется. Но адмирал так и ушел. Совсем. И больше его уже никто никогда не видел.
Подкосил его, значит, этот самый бас-геликон навсегда. А может, понял, что ни к чему он, наш парад. Впрочем, кто его знает? Дело давнее.
Это был последний день, когда мы, русские моряки, все собрались в Бизерте у наших кораблей. Это был наш последний парад. Вернее, парада-то уже и не было. Некому было его принимать.
Потом началась вторая мировая война, и остатки экипажей эскадры судьба разбросала по свету, кого куда. Мне, к примеру, довелось воевать во Франции вместе с антифашистами. Сражался я верой и правдой, искупая свои прежние заблуждения. Был и ранен, и награжден французским орденом. После войны я попросил Советское правительство разрешить мне, старику, вернуться на Родину, чтобы хотя умереть на родной земле. Правительство снизошло до моей просьбы и разрешило мне вернуться в СССР. И даже велело назначить