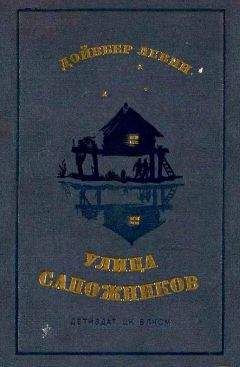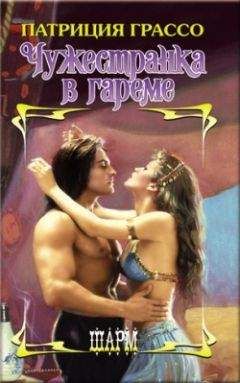Увидав Файвела, ребята приостановились, попятились. Но передний, худощавый паренек в полосатых штанах, крикнул: «Арш!» и, пригнув голову, кинулся в прихожую. Другие — за ним. А из прихожей — на парадную, с парадной на крыльцо, протопали по ступенькам и пропали.
Тут только Файвел пришел в себя.
— Стой! Держи! — крикнул он, высунувшись в окно. — Держи! Стой!
Но «разбойников» уж и след простыл. Только пыль еще клубилась по улице.
Только пыль еще клубилась по улице, а «разбойников» и след простыл. Они уже засели на старом своем месте — на Черном холме за мостом.
Был пятый час. Зной спадал. За мостом видны были Ряды: крыши и крыши, над крышами, выше крыш — церковный крест и темный остроконечный — в два яруса — купол синагоги. А под мостом — ровная, спокойная гладь Мереи.
Ребята лежали на краю холма и хмуро глядели на мост, на реку, на Ряды. Не везет-то как, а?
— Да-а, — сказал Неах. — Повоевали. Вспомнить тошно.
— Как же… ты… рыжий кот?.. — проговорил Неах. У него еще дергалось лицо, и говорил он с трудом.
— А вы то что? — сердито сказал Ирмэ. — Сами дрыхать, а мне — гляди? Ладно!
— Мы не с-спали, — сказал Алтер. — Мы т-так…
— Не спали. Как же! — проворчал Ирмэ.
Симон вдруг засмеялся.
— А здорово ты его двинул, — сказал он Хаче.
— Это Семена-то? — сказал Хаче. — Ничего.
— А Неах Моньку-то, а? — сказал Алтер. — Д-думал — убьешь ты его, ей-б-богу.
— И убью! — процедил Неах.
— А поглядели бы на Файвела! — сказал Ирмэ. — Помереть!
— Рожа-то вытянулась, — сказал Симон. — Ясно.
— Плюнуть бы ему в рожу, — сказал Ирмэ.
— Чего не плюнул? — сказал Хаче.
— Да так. Некогда было.
Ребята повеселели.
— Вот что, орлы, — сказал Симон, — пошли купаться. Ясно?
— Пошли, — сказали ребята.
На самом берегу — ноги в воде — сидел толстый паренек, но имени Цалэ, по прозвищу — Балда. Он ничего не делал. Сидел, глядел на воду, вылупив глаза, рот разинув до ушей. Должно быть, сидел он так уже давно.
Ирмэ подошел сбоку и быстро сунул ему в рот кулак.
Паренек повернул голову, увидал Ирмэ и обрадовался.
— Го, — сказал он, — рыжий.
— Здорово, Балда! — сказал Ирмэ. — Что слыхать?
Цалэ подмигнул.
— Попало?
— Ты откуда знаешь? — сказал Хане.
— Я-то все знаю, — сказал Цалэ. — И что вас, дураков, в кутузку засадют — тоже знаю. Монька говорит: «Всех, говорит, упеку».
— Хвалилась корова волка съесть, — проворчал Симон.
— А твой-то опять Гутэ лупил, — сказал Цалэ Неаху. — Ох, лупил. Оглоблей.
Неах не ответил, промолчал.
— А Нафталке-то ногу сломал, — сыпал Цалэ. — Полез, понимаешь ты, в погреб, оступился, — хрясь — нога пополам. А к Сендеру теща приехала. А у Ерухема собака ощенилась…
Ребята хохотали.
— И верно, все знает, — сказал Хаче.
— А Лейке-то с петли сняли, — продолжал Цалэ. — «Наше, говорит, на войну берут, а мне, говорит, подыхать? Не хочу». А Герша-сапожника стражники загребли..
— Врешь, — сказал Ирмэ, подступая к Цалэ.
— Ну? Вру? — обиделся Цалэ. — И к Лейбе было пришли, да тот-то пронюхал и — ходу. «Где Лейбе?» — «Нету Лейбе».
Ирмэ потянул Алтера в сторону.
— Слыхал?
— Думаешь — С-Степа?
— А то кто?
— Да-а, — Алтер вздохнул.
— Наделали мы с тобой делов, — сказал Приз — Убить мало.
Они шли вдоль берега, медленно удаляясь от местечка. Ирмэ цыкал зубом, ворчал что-то. Алтер уныло плелся позади. Шли и шли. Уже Ряды остались далеко, близко в ложбине уже маячили хаты Глубокого и виден был колодезный журавль.
Вдруг раздался звон. Звон был частый, тревожный. «Бом-бом. Дзинь-дзинь», в Рядах звонили колокола. — Ребята остановились, послушали. Потом Ирмэ крикнул: «Пожар!» и побежал к местечку. Алтер — за ним.
Они бежали по узкой тропе. По обе стороны рос лен. И вдруг — прямо впереди — ребята увидали человека. На полянке, в траве, раскинув ноги, лицом уткнувшись в землю, лежал человек в белой рубахе и синих штанах.
— С-Степа! — сказал Алтер.
Пригнувшись, неслышно ступая босыми ногами, Ирмэ стал осторожно подбираться к полянке. Пройдет шагов пять, остановится, смотрит. Степа? Нет, будто но он. Будто не Степа. И опять — почти ползком — еще два-три шага. И станет, смотрит. Нет, не Степа.
Должно быть, тот, на полянке, почуял ребят, — он быстро присел, вскинул голову, оглянулся.
— Дядя Лейб! — крикнул Ирмэ.
Лейбе посмотрел, встал и не спеша пошел прочь.
— Дядя Лейб, — сказал Ирмэ, — это я, Ирмэ.
Лейбе обернулся, мигнул — «тихо» и, весело махнув рукой, пошел куда-то в сторону, в поле. Шел сначала медленно, потом ускорил шаг, потом побежал. Побежал-побежал — понесся. Ребята долго глядели ему вслед.
— Так, — сказал Ирмэ. — Дела!
— Совсем он, что ли, у-уйдет из Рядов? — сказал Алтер. — Как д-думаешь?
— Думаю — уйдет. Где ему тут?
Когда подходили к мосту, Ирмэ сказал:
— Чтоб ни гугу! Понял?
— Не м-маленький, — проворчал Алтер.
Не было пожара. Был молебен. В церкви служили молебен о «даровании победы русскому оружию над супостатом». Огромная толпа запрудила тесный церковный дворик, площадь, соседние улицы. Мужики, бабы, старики, дети — все стояли молча, понуро, вздыхали топотом и рукавом рубахи размазывали слезы по щекам. Звонили колокола. Перед образами горели свечи. И хор пел.
Потом молебен кончился, и по главной, Пробойной, улице двинулся крестный ход. Впереди два дюжих мужика, братья Фомины, прасолы из Застенок, несли большой портрет царя. За ними — чинно, важно — выступал рядский священник, отец Федор. За ним пристав, невысокого роста, худощавый, в пенсне. За ним — хоругвеносцы, рота целая хоругвеносцев. Дальше народ — старики, бабы, детишки. В заднем ряду Ирмэ увидел того самого мужика, с которым он утром разговаривал в поле. Мужик тяжко вздыхал, крестился истово, а по шершавой его щеке медленно катались слезы.
Дойдя до конца Пробойной, пристав, урядник и почтмейстер, о чем-то негромко посовещавшись, свернули в синагогальный переулок. «Неужто в синагогу?» подумал Ирмэ. И верно, пристав, урядник и почтмейстер пошли в синагогу. У входа их ждали раввин, тихий старик с красными подслеповатыми глазами, и Файвел Рашалл.
— Добро пожаловать, ваше благородие, — торжественно сказал Рашалл и распахнул перед приставом тяжелую дубовую дверь. — Прошу.
В синагоге было полно, по продохнуть. Откуда-то сверху, из женского отделения, что ли, доносился тягучий вой. Горели свечи на амвоне. И у амвона, поблескивая стеклышками пенсне, стоял пристав. Рядом — по-солдатски, руки по швам, носки врозь — стояли урядник и почтмейстер. Дальше — Рашалл, Казаков, Мендел Шер — рядские киты. Дальше — лавочники, коробейники, огородники, а там — их почти не различить было в сумраке — сплошной стеной сапожники, шапочники, скорняки, портняги — местечковая плотва, шушера, голь.
Файвел Рашалл стукнул кулаком по амвону — тихо! И заговорил пристав. Он говорил неверным, ломким голосом и почему-то очень торопливо.
— Евреи! — сказал он, — бог послал нам тяжелое испытание, враг вторгся в наши пределы и объявил нам войну. Евреи! Настало для вас время доказать верность свою родине, России, и его величеству государю импера…
В самом дальнем углу синагоги что-то случилось — чего-то там задвигались, зашевелились. Кто-то пробивался к амвону, и чей-то голос сипло, но внятно сказал: «На дурака вся надежда, а дурак-то и поумнел…» Пристав услыхал голос, умолк, оглянулся и увидел — сквозь толпу к амвону пробивается шорник Нохем, высокий, худой, лицо черное, глаза впалые — дикий человек!
— Что? — сказал пристав. — Что такое?
Файвел быстро подскочил к амвону.
— Так. Пустяки. Пьяница один. Пропойца, — сказал он и стукнул кулаком по амвону. — Тихо, люди!
Но уже Нохема было не унять. Он отстранил Файвела: «Погоди ты», — подошел к приставу совсем близко, почти вплотную, и сказал весело и зло:
— Я говорю, ваше благородие: на дурака вся надежда, а дурак-то, говорю, и поумнел…
Рядом с Нохемом вдруг вырос старший стражник Кривозуб. Он замахнулся и большой волосатой лапой — раз Нохема по лицу. Тот умолк, осел. Несколько человек подхватили его под руки и поволокли к двери. Он вырывался, что-то кричал, но не понять было что: кто-то кулаком заткнул ему рот. А Кривозуб — раз за разом — стукал его по лицу.
— Уб-бью! — рычал он. — Застрел-лю!
Ирмэ протиснулся к двери. За дверью на улице стоял Неах. Он плакал.
— Видал… как… они? — проговорил он сквозь слезы.
— Куда они его? — сказал Ирмэ. — В острог, что ли?
Неах, не отвечая, пошел к базару. Он шел и плакал. Плакал молча. Только слезы катились но лицу.