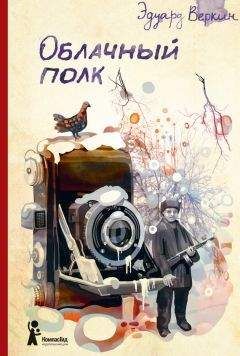– А, ты, значит, говорить научился? – поглядел на меня Ковалец. – Как тебя зовут, я забыл? Заусенец? Мозоль? Промокашка?
– Я…
– Ты Заусенец, – сказал Ковалец. – Так вот, Заусенец, послушай меня…
– Его зовут Дмитрий, – отчетливо сказал Саныч. – Ты, наверное, забыл.
– Дмитрий? – удивился Ковалец. – Не ожидал, не ожидал… Значит, Дмитрий Заусенец, говоришь? Здравствуй.
Ковалец протянул мне руку, и я зачем-то ее пожал и тут же начал себя за это ненавидеть: он мне в рожу плюет, а я ему еще руку пожимаю!
– У нас едва пятьдесят человек в отряде наберется, а ты только командиров по именам знаешь, – произнес Саныч с мягкой укоризной. – А вот Суворов всех своих солдат знал в лицо, между прочим.
– Так ты у нас Суворов, значит, – с уважением сказал Ковалец. – А я не знал, извини, Суворов… Только маленький, да?
– А тебе что, Суворов не нравится? – мрачно спросил Саныч. – Может, тебе другие полководцы нравятся? Гудериан, например?
Щурый закашлялся под полушубком, достал пистолетный патрон и стал перекатывать между пальцами. Это Саныч его научил – сказал, что развивает цепкость, а без цепкости на войне никак. Патрон бегал вокруг синей ладони, Щурый ловко перекидывал его в другую руку и обратно и снова пускал в пляс, иногда умудряясь для звука прищелкивать ногтем по пуле.
– Ты на что намекаешь?! – Ковалец попытался гневно подтянуть ноги, но построенная Щурым мебель предательски зашаталась, и Ковалец вынужден был снова выпрямить ноги. – Ты болтовню свою придерживай, а то можно серьезно жевалок недосчитаться…
– Это ты у нас любишь попридержать, – ответил Саныч. – Особенно в атаке. Подождешь, пока остальные побегут, а потом сам уже торопишься. Знаешь, Алевтина, у нас в отряде даже поговорка есть – поспешай, как Ковалец…
Этого Ковалец перенести уже не мог, он совершил неосторожное резкое движение, и стул подвел уже окончательно, разъехался в разные стороны, Ковалец оказался на полу и как-то неудачно завалился на бок – из карманов просыпались два пузырька с духами и что-то очень похожее на баночку с пудрой.
– Какие тут у нас галантереи-то… – протянул Саныч. – На целую дивизию! Какой уж тут Суворов…
– Ну, все, сволочь! – Ковалец быстро собрал свои принадлежности. – Все, скотина…
– Только не плачь, – попросил Саныч. – Я что-то с собой платков батистовых сегодня совсем не прихватил…
Ковалец вскочил на ноги. Щурый ойкнул, уронил патрон. Я пододвинулся ближе к выходу.
– Вон, – негромко сказала Алевтина.
– Это он первый начал, – вдруг совсем по-детски сказал Саныч. – Он всех задирает всегда.
– Вон, – повторила Алевтина.
– Вон-вон, – добавил Щурый.
Саныч поглядел на Ковальца. Тот уходить не собирался, даже напротив, ослабил от жары ворот гимнастерки и досталтаки платок, большой, клетчатый, но выступивший на лбу пот не вытирал, мял платок пальцами, на нас не смотрел.
– Ладно, Дим, пойдем, – сказал Саныч. – Что-то здесь жарко совсем, голова болит.
Удерживать нас не стали.
Мы вывалились на воздух, Саныч сгреб снег с крыши землянки, стал есть.
– Давай его дождемся, – предложил я. – Отлупим его хорошенько, пусть знает.
Саныч помотал головой.
– Отлупим, – повторил я. – Завтра с топчана не поднимется!
– Ты пока иди, – сказал Саныч. – Домой. Я тут подышу.
– Так, может…
– Подышу немного. А ты иди. Иди.
Я не стал спорить.
Землянку выстудило, я долго разжигал печку и кипятил чайник, Саныч все не возвращался, и мне в голову стали приходить разные мысли. Ну, вот он сейчас дождется Ковальца, поговорит с ним, а потом раз – и ножиком по горлу. Или ТТ выхватит и две пули ему в башку. Прибьет, одним словом. А потом трибунал…
Думал-думал, испугался и полез наружу разнимать.
Саныч сидел в снегу, под деревом. Без шапки. Я хотел ему сказать, что Ковалец – полный гад и ради него не стоит жизнь себе калечить, но Саныч только рукой махнул и головой покачал.
Не собирается он его убивать, вот что я понял. И вернулся к себе.
Дура эта Алевтина, определенно дура. И Саныч дурак, полез с этим гусем. Знал же, что Ковалец придет и с дорогим наверняка подарком, зачем тут гусь этот…
Чайник закипел.
Я достал банку с травяной смесью, заварил. Летом запахло. Какой-то нескладный день, хорошо, что заканчивается. Правильно сказал Саныч, ничего хорошего в первом снеге, с ума тут посходим.
Пацан шел по полю. С тычком и корзиной. Подснежники собирает. Картошку. Первый снег сошел, оттепель, невыбранная картошка повылазила.
– У него спросим? – я кивнул на пацана.
– Не, не спросим. А вдруг он старосты внук? По-другому. Оружие убрать надо.
– Так и так безо всего идем…
– А «вальтер»?
И как он заметил? Уж и спрятал-то совсем вглубь ватника, в подмышку левую, даже на ощупь не проймешь, но Саныч, конечно, увидел. Или просто знал.
– Оружие долой, – сказал он. – Найдут – сразу шлепнут, разговаривать не станут.
Я вытащил пистолет. Саныч достал свои два, патроны, гранату. Все погрузил в брезентовый мешок, затянул сверху, сунул в снег под двурогую березу.
– Нам еще три дня шлепать, пока к аэродрому подберемся, – сказал он. – Может, даже четыре – по такой-то погоде. Лучше нормально переночевать, кости еще сто раз успеем отморозить. Ладно, как всегда работаем – под беспризорных.
Я сунулся было на картофельник, Саныч остановил.
– Пусть сам подойдет, а то испугается, драпанет, своих поднимет. Ждем.
Стали ждать.
Парень приближался медленно, шагал, как сапер по минному полю, действовал тычком, вглядывался в землю. То и дело останавливался, опускал корзину на землю, подпоясывался длинной веревкой, перетягивал крест-накрест пузо. Иногда подбирал картофелины, редко, правда. Но подбирал. Наверное, уже разу по третьему прочесывает, все почти выклевал. Хотя еще по весне можно проверить. Правда, весной картошка мороженая, надо быстро жарить, пока не расползлась.
Саныч нюхал воздух. Ветер был со стороны деревни и, как и полагается, пах дымом, совершенно обычным, деревенским. Но Саныч чувствовал дым по-другому.
– Хлеб пекут, – сказал он минут через пять. – Хорошо живут…
Это его, конечно, настораживало. Хорошо жить во время войны могут совсем немногие, и как правило, это далеко не лучшие люди. А уж хлеб… Откуда у них мука? Да еще по весне? Немцы должны были все повывезти, и сами жители подъели наверняка. У нас последний хлеб был в сентябре, да и то овсяный, а дальше как кому повезет.
– Выходим, – шепнул Саныч.
Парень приблизился метров на пятьдесят. Тянуть нечего: вывалились из кустов, стараясь выглядеть не очень страшно. Картошечник не испугался и не побежал, остановился, стал нас разглядывать. С подозрением, конечно же.
– Привет, братишка! – Саныч улыбнулся.
Если честно, на беспризорника он не очень походил – рожа слишком круглая, а глаза слишком… Другие глаза у беспризорников, я видел. Хотя кто сейчас разбираться станет. Дурак не догадается, а если не дурак, так и сам все поймет.
– Ты здешний? – Саныч кивнул на деревню.
– Ага. А вы откуда? Из Новгорода?
Спросил парень совершенно равнодушно.
– Из Руссы, – ответил Саныч. – В Псков топаем, к тетке.
– А, понятно. В Псков – туда.
Парень указал грязным пальцем.
– Да мы знаем. Только это… – Саныч поглядел в небо. – Вечеряет уже, нам бы остановиться.
Парень скривился.
– У нас никто не пустит, – помотал он головой.
– А чего так? – Саныч подмигнул.
– Так война. Ты пустишь, а они скажут, что укрываешь.
– Кто скажет-то?
– Кто-кто, понятно кто, сами, что ли, не знаете? Всех молодых ведь угнали…
Парень кивнул на деревню.
– А тебя чего не угнали? – спросил я.
Парень выставил из фуфайки руку. Она была сухая и дряблая: кость, кожа, мяса мало. Калека. Как Щурый, только хуже – уже не поправится.
– Мне локоть телегой переехало, – объяснил парень.
– А к тебе самому нельзя? – спросил Саныч.
– Мамка не разрешит.
– А пустые избы есть? – продолжал приставать Саныч.
Сухорукий промолчал.
Пустая изба – не лучший выбор: печку затопишь – и все узнают, что чужаки заявились. А без печки ночевать тяжко. Поэтому лучше всего бродяжками прикидываться, сейчас бродяжек полно шляется, деваться некуда, многие пускают.
– А до другой деревни далеко?
– Часа четыре, – сухорукий указал пальцем. – Туда. Стариково.
– Ну ладно, пойдем в Стариково. К ночи доковыляем, наверное.
Саныч плюнул, пнул смерзшийся ком земли, побрел через поле. Я тоже плюнул, землю пинать не стал, поберег ботинки.
– К художнику можно вообще-то, – сказал вдогонку сухорукий.
Саныч остановился.
– Да, к художнику, – повторил сухорукий.
Саныч обернулся.
– Он один живет, сестра умерла в прошлую зиму. Раньше он всех пускал.
– Проводишь?
Сухорукий помотал головой.
– Не. Мне картошку надо собирать. У него изба на отшибе, сразу увидите. Только стучите дольше. Стучите и стучите.