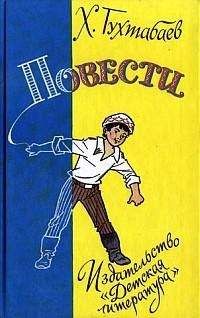Ослик мой бежит то галопом, то рысью, а я занят своими мыслями. Глядите-ка, как хорошо на поле! По берегам арыков пробилась зелень, зацвели цветочки, детишки собирают щавель, а взрослые впрягли в плуг волов или коней и пашут землю. Женщины вяло машут кетменями, сразу видно, что здорово устали.
– Чу, ослик мой удалой! – стегаю я своего лопоухого, и мы на всех парах несёмся дальше.
Наконец откуда-то донёсся гул трактора. Значит, мама где-то поблизости. Только скажу ей свою новость? Вдруг она расстроится, ударится в слёзы? Я видеть не могу, как плачет мама, у меня просто сердце разрывается на кусочки. А вон и трактор. Мама сидит за рулём. За её спиной стоят две женщины. Катаются. Эге, дела тут, я вижу, мировые!
Мои детишки устроились под старым тутовником. Я уже говорил, что самой младшенькой – два годика. За ней присматривает Зулейха.
Рабиниса спала, укутавшись в старый папин чапан. Зулейха и Усман самозабвенно играли в камушки. Аман ползал в арыке, рвал только-только пробившуюся зелень и жевал её. Словом, они были так заняты собой, что и не заметили, как я соскочил с осла и долго наблюдал за ними. Первым увидел меня Усман.
– Брат приехал, брат приехал, – запрыгал он на месте.
Не знаю, по-моему, Усман любит меня чуть больше, чем все остальные. Если его кто-нибудь обидит, то он плачет не как все дети: «Мама-а!» Нет, он ревёт так: «Ака-а-а!» Если его побили ребятишки, опять вспоминает меня: «Вот погоди, придёт мой Ариф-ака, задаст вам жару!» Но не зря любит меня Усман. Из люльки он прямёхонько переселился на мои плечи. Можно сказать, на моём горбу и вырос.
Усман сразу принялся жаловаться:
– Ака, смотрите, Зулейха отобрала все мои красные камушки!
– А вот и нет! – взвилась Зулейха. – Я их у него по-честному выиграла.
– Ты мошенничаешь, а не по-честному!
– Сам ты мошенничаешь! – не сдавалась Зулейха.
На мой голос выполз из арыка Аман.
– Ака, акаджан, Зулейха ваша и Усман мой хлеб съели!
– Не может быть!
– Если не верите, вот пощупайте мой живот – он начисто голодный! – С этими словами Аман задрал рубаху, показывая мне надутый и красноватый, как у птенца, живот.
Хорошо, что в кармане у меня оказалось с горсточку сушёного урюка. Высыпал его в ладошки брата, потом нахмурил лицо и повернулся к Зулейхе:
– Ты почему съела хлеб братишки? Ещё раз такое услышу – не покатаю на осле.
Тем временем Аман успел куда-то припрятать урюк и опять принялся жаловаться:
– Этот… этот… Усман тоже отбирает у меня хлеб. Верно, что отбирал, верно ведь?
Расставил кривые тонкие ножки, животик болезненно вспухший, на лице нездоровый румянец, – я поглядел на него, и что-то больно сжалось внутри. Поспешно зашарил по карманам: авось что-нибудь выужу (а я всегда что-нибудь в них ношу для своих детишек).
Выскреб несколько изюминок, очистил от волосинок и крошек, подал брату. Он поспешно сунул их в рот и, по-петушиному дёргая головой, проглотил.
– Ака, а я ведь болею, сами посмотрите, какой у меня животик! Я поправлюсь, если буду есть много-много изюма…
Горе моё, что ж мне делать? Карманы мои пусты, нечем угостить малыша… А он ведь в самом деле голоден. Ему бы сейчас есть да есть, много всякого вкусненького и сладкого. А он целыми днями впроголодь, на поле. Куда пошлют мамин трактор, туда и он…
Я порывисто подхватил брата на руки, поцеловал в лоб.
– Пошли к мамочке, Аман, может, она припасла для тебя кусочек лепёшки?
Аман, как только услыхал про лепёшку, ужом соскользнул с моих рук и со всех ног бросился к маминому трактору. Я побрёл за ним. Земля была вспахана глубоко, от чёрных влажных пластов поднимался парок. Птиц летало вокруг видимо-невидимо: они охотились за оказавшимися наверху червями…
Я ошибся, когда подумал, что те две женщины просто катаются на тракторе – это были мамины ученицы. Одну из них звали Кумриниса-апа[7]. Когда её муж уезжал на войну, она так плакала, что не выдержали и другие провожающие. Мукаррам-апа, вторая женщина, недавно получила на мужа-фронтовика похоронку. У неё грудной ребёнок. За ним тоже присматривает наша Зулейха. Поэтому тётушка Мукаррам каждый день дарит ей пол-лепёшки.
Трактор остановился в конце поля. Мама передала руль Мукаррам-апе, сама соскочила на землю, взяла на руки плачущего ребёнка. Тот сразу замолчал.
– Никак не научится Мукаррам вести трактор прямо, – вздохнула мама. Я посмотрел на неё. Сказать правду, в таком виде мама вовсе не походила на женщину. Тяжеленные кирзовые сапоги, мужские ватные штаны, стёганая ватная фуфайка, на голове кожаная шапка, лицо грязное, руки масляные… Эх, вырасти бы поскорее, самому сесть на трактор, освободить маму от всяких забот!
Мама опустилась на мягкую землю, со вздохом вытянула ноги, зевнула, посадила Амана на колени. Вынула из кармана крошащийся кусок лепёшки из джугары[8], сунула ему в руку, потом обернулась ко мне:
– Что-то ты рановато сегодня, сынок…
– Да так… – промямлил я, не зная, с чего начинать.
– Рис очистил?
– Очистил.
– Простоквашу заквасил?
– Да.
– Что с кукурузой?
– Выставил на крышу. Половину вылущил.
– Молодец, Арифджан, такого сына ни у кого на свете нет. Дай я тебя поцелую. Как хорошо, что по глупости, по молодости я решилась тебя родить!..
В этот миг мне стало как-то не по себе. В горле застряло что-то мягкое и тёплое, по телу пробежали мурашки. Я заплакал.
– Ия, ты чего это, дурачок?
– Мама…
– Ты хочешь что-то сказать?
– А вы не расстроитесь?
– С чего мне расстраиваться-то?!
– Дайте слово, что не будете плакать.
– А ты вначале скажи, что случилось-то?
– Нет, вы пообещайте не плакать.
– Ладно, глупышка, обещаю.
– Папу… – Слёзы опять полились из моих глаз. – Папу забирают на войну.
Нет, мама не заревела. Вздрогнула сильно, опустила голову и замолчала надолго. Потом, медленно шевеля бледными губами, прочитала повестку, молча вернула её обратно. Покрепче прижала грызущего лепёшку Амана, глубоко задумалась. О чём, интересно? Весть моя, конечно, маму не обрадовала. И кажется, мама вот-вот зарыдает, от меня глаза прячет…
Поразмыслив, я решил поехать к отцу. Ещё «не так поздно, до темноты сумею обернуться. Они там, у гор, чистят анхор[9], который обеспечивает нас водой.
До анхора я добрался быстро. У каждого кетменщика был свой отмеренный участок. На берег летели песок, глина, гравий. К отцу подвёл меня табельщик Мурадхан-ака. Узнав, что отцу пришла повестка, он сказал:
– Не расстраивайся, дядюшку Палвана[10] на войну не заберут. Он ведь один работает за пятерых. Что мы станем делать без таких людей?
И правда, если у других участок в четыре-пять метров, у отца он вытянулся метров на двадцать и уже почти вычищен.
Отец не спеша, размеренно выбрасывал на берег песок. Кетмень у него сделан по заказу.
Им, кроме отца, никто не может работать: лезвие с целый стол, тяжеленнейшее, просто ужас. Я еле приподнимаю этот кетмень.
Табельщик Мурадхан-ака какое-то время наблюдал за отцом, потом окликнул:
– Дядюшка Палван! К вам тут гонец на осле.
Отец поднял голову. Он тяжело дышал, на лбу его выступили крупные капли пота. Одна пола чапана заткнута за поясной платок – чорсу, рукава закатаны до локтей.
– Арифджан?
– Я это, папа, я.
– Вылазьте сюда, дядюшка Палван, – сказал табельщик. – Важный разговор.
Отец упрямо мотнул головой: нет, дескать, немного осталось, вот закончу, тогда и поговорим.
Весть, которую я принёс, отец принял спокойно.
– Ты смотри-ка, Мурадхан! – воскликнул он. – Сегодня только во сне видел, как я на белом коне уходил туда, куда садится солнце. Вот уж действительно вещий сон! – Больше папа ничего не сказал, только как-то отрешённо улыбался да то щипал нос, то почёсывал за ухом.
Наш председатель не хотел отпускать отца на фронт, даже в военкомат ездил. Там он сказал, что Мирза-палван один выполняет работу трактора, если он уедет, то колхоз развалится на кусочки. Но его никто не послушался: «На фронте как раз такие богатыри и нужны».
Ночью отец свалил большую урючину в саду, распилил и нарубил дров, а под утро поехал на мельницу, намолол пшеницы и джугары. (Он, верно, думал, что этого хватит до его возвращения.) Вечером у нас собрались люди. Первой появилась во дворе тётушка Тулган с тремя мешочками в руках.
– Как только приедешь на фронт, передашь всё это двум моим сыновьям и брату. Скажешь, что мы тут все… – больше она не могла говорить, разрыдалась.
После неё пришли Парпи-бобо[11] и его жена тётушка Тухта. Дедушка Парпи – дядя нашего отца. А вообще в кишлаке у нас очень мало родных. Дедушка Парпи – и всё. А у матери здесь совсем никого.
Старики тоже принесли гостинцы для своих детей. Дед еле передвигал ноги, всем телом налегал на сучковатую палку. Он прошёл прямо в комнату, где сидели мужчины, но через минуту вышел обратно.