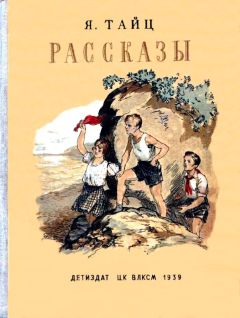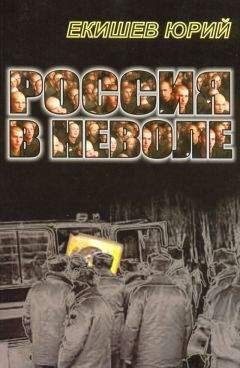По трибунам прокатился одобрительный гул. А когда он смолк, звонко заговорила девочка:
— У меня такая картинка, — она взмахнула вырезанной ил детского журнала страницей: — нарисован товарищ Сталин, он держит маленькую дивчинку Гелю. Товарищ Сталин так приветно улыбается, а Геля така гарнесенька та черненька! Можно ли сделать, как это, только чтоб вместо Гели были мы, наш отряд?
Зина обернулась ко мне:
— Товарищ почетный пленник, как вы считаете?
Я ответил Великому Собранию:
— Ладно, товарищи, попробую нарисовать вашу мечту.
Первым делом я стал рисовать пионеров. Кудрявая украинка, хохотунья Галя, стройный и ловкий кабардинец Барасби, узкоглазый, не умеющий говорить по-русски кореец Пак, молчаливый ненец Юфат, землячок Миша Кулешов, толстощекая шумная Сарра из Биробиджана — все они очутились у меня в альбоме.
А жил я в ящике.
Зина все уговаривала меня перейти в большой дом. в просторную комнату, но мне понравился ящик, В нем недавно привезли из Москвы столичный подарок — концертный рояль!
Ребята смеялись:
— Посадили пленника в ящик!
Но ящик ящику рознь. Этот был громадный, как дом. Я поставил его у самого моря, покрыл голубой краской, навесил дверь, пробил окно, и там стало очень хорошо.
Весь день за тонкой стеной моего «музыкального» ящика шумели волны и пионеры. В окно врывался морской ветер и шуршал бумагой, точно спрашивал:
— Как работается?
А волны то тянулись к окну, подсаживая друг дружку, то стучали галькой в дверь:
— Как работается?
Ночью заглядывали большущие звезды, мерцали изо всех сил и тоже, я уверен, интересовались:
— Как работается?
А когда я заснул, мне приснилась удивительная музыка: недаром же в моем «доме» долго жил важный концертный рояль!
Разбудили меня горны, солнце и звонкий голос:
— Вы не спите?
Это была Галя. Она засунула кудрявую голову в окно и покосилась на стол:
— Как работается?
— Ничего, спасибо!
Я показал ей черновой рисунок будущей картины. Галя сразу же отыскала себя среди массы нарисованных пионеров и засмеялась:
— Это я? Ой, смех! Только почему ж вы меня так далеко? А не можно сделать меня у середочке, чтобы товарищ Сталин держал меня за руку? Как Гелю?
— Отчего нельзя, — сказал я, — можно!
Она убежала счастливая. А я взялся за карандаш. Работалось легко, потому что всё — и радостный утренний свет, и особенная свежесть, и соленый ветер, и синий морской простор, — всё это было со мной заодно…
Вдруг чья-то тень упала на рисунок — это маленький кореец Пак. завернул ко мне, в мой фанерный «дом».
— Здравствуй, пожалуйста! — сказал он и пошмыгал носом.
— Здравствуй! Что скажешь, Пак?
— Ничего… моя так… — он посмотрел на меня косыми лукавыми глазами. — Моя пришел спросить: можно моя сделать близко от Сталина? Пожалуйста! Моя будет говорить большой спасибо!
Он застенчиво улыбался и долго и неумело упрашивал меня. Я не мог отказать ему.
Я достал резинку и начал стирать Галю, оттесняя ее на задний план ради Пака. Но не долго пришлось Паку торжествовать! Самодельная дверь хлопнула, и в мой «дом», похожий на домик Нуф-Нуфа из сказки «Три поросенка», ворвалась рыжая и шумная Сарра:
— Товарищ художник, что я вас хочу попросить! Вам лее это ничего не будет стоить! Сделайте меня близко к товарищу Сталину. Ну что вам стоит? Ну сделайте!
Я засмеялся и стал было объяснять ей, что… Но она не слушала и все уговаривала меня. Пришлось уступить. И я снова взялся за резинку.
Но когда пришел Юфат и стал долго и упорно сопеть за моей спиной, я не выдержал:
— Ты зачем?
— Я бы… хотел… меня сюда… — и он показал пальцем на то место, где уже была нарисована Сарра.
Нет, я не выдержал и побежал к Зине — пусть ее разбирается.
Вечером на Костровой площадке снова заполнились трибуны. Снова шумело Великое Собрание Отрядов. Зина, размахивая руками и горячась, говорила:
— Ребята, так же нельзя! Художник отказывается работать! Нельзя же всех рисовать в середочке, около товарища Сталина. Ведь вас много, надо же понимать!
Великий Сбор долго обсуждал положение и постановил:
«Просить художника сделать в большом виде уже имеющий-ся портрет товарища Сталина с девочкой Гелей, чтобы никому обидно не было».
А когда громадный портрет был готов и мы поместили его-над трибунами и стали готовиться к Большому Костру, оказалось, что в лагерь приехала сама Геля.
Ребята ужасно обрадовались. Они повели Гелю на Костровую площадку, поставили под портретом и всё смотрели: похожа она или непохожа? Потом ее заставили чуть ли не сто раз подряд рассказывать о том, как она была в Кремле и как Сталин брал ее на руки.
А я стал собираться в дорогу. Я очень жалел, что «плен» мой окончился и что пришла пора покинуть веселое, солнечное государство чернокожих пионеров.
Весной я поехал в деревню рисовать, по-нашему — на этюды.
И вот после ночи в поезде я очутился на маленькой станции. За спиной у меня рюкзак и ящик для красок, по-нашему — этюдник.
Сонный сторож лениво шаркал метлой. Пусто: ни лошадей, ни машин.
— Все в поле, на посевной, — объяснил он.
— А далеко ли до Лепешихи?
— Близко, километров двадцать… Пойдешь все прямо, сначала будет Шепелиха, а за ней и Лепешиха.
Я зашагал по дороге. Шумели березы, пахло черемухой, травами, землей… Солнце поднималось, стало жарко. Мне захотелось пить. Где взять воды?
Все так же тянулось бесконечное поле, все так же шелестели березы, все так же дорога шла то вверх, то вниз, то вверх, то вниз…
«Бочку выпил бы!» мечтал я. Рюкзак и этюдник тяжелели с каждым шагом.
Наконец, поднявшись на холм, я увидел деревню. Я прибавил шагу, вошел в крайнюю избу, нащупал в темных сенях дверь и приоткрыл ее.
Мальчишка лет пяти стоял за дверью. Он выкатился на меня. Я подхватил его. Он стал вырываться.
Девочка постарше кинулась к нему.
— Никого нету дома, — сказала она. — Васенька, не плачь!
— А я вовсе не плачу, — сказал Вася и смело уставился на меня голубыми глазами.
— Ребятки, мне никого не надо! Мне бы только напиться водички.
— А ты кто? — вдруг спросил Вася. — Пастух?
— Нет, не пастух.
Я снял с плеча этюдник и раскрыл его.
— Ой, какие! — обрадовался Вася. — Синенькие, красненькие, зелененькие!.. Танька, Танька, сколько Краснов!
Таня подала мне воды. Я стал пить. Я выпил три кружки и еще половинку.
— Пейте, — сказала Таня, — нам не жалко.
— Будет, спасибо!
Я кивнул на дверь. Она вся была покрыта меловыми линиями, человечками, домиками и загогулинами.
— А это кто рисовал?
Таня смутилась и схватила тряпку:
— Это мы с Васькой… Я мел из школы принесла… Это мы так…
А Вася стал совать мне в руки мелок:
— Дяденька, нарисуй нам чего-нибудь, ладно?
Я взял мелок.
— Что ж вам нарисовать?
— Лошадку, — не задумываясь, ответил Вася.
— Чтоб стояла или чтоб бежала?
Вася посоветовался с сестрой.
— Чтоб бежала.
Я стал рисовать. Я очень старался. Мне хотелось нарисовать так хорошо, как только умею. Таня с Васей сопели за моей спиной.
Я представил себе мчащегося галопом коня. Шея его вытянута. Хвост и грива развеваются по ветру. Острые копыта рассекают воздух.
Мелок скрипел и крошился. Я стирал неверные линии, поправлял, а когда закончил, почувствовал настоящую усталость и с жадностью допил кружку.
Лошадка получилась хорошо, мне самому понравилось. Ребята смотрели на меня, точно на волшебника. Я стал собирать свои пожитки, но Вася обнял меня за ногу:
— Дяденька, еще нарисуй, еще!..
— Нет, друзья, надо идти. Всего хорошего!
И я снова зашагал по дороге.
К вечеру я добрался до Лепешихи и поселился в Лепешихинском бору, у старого лесника.
Старик очень любил свое дело. Целыми днями он все бродил по лесу, а по вечерам уговаривал меня:
— Сынок, бросай свое художество, переходи на лесное ремесло. Я тебя обучу, будешь мне помощником. Гляди, у нас лес какой — красный, мачтовый, сосна к сосне!
Я отвечал, прислушиваясь к лесному шуму за окном:
— Надо подумать, Игнат Петрович… Не сразу, Игнат Петрович…
Старик не отступал:
— Вернешься в Москву, подавай в Лесной институт. Дадут тебе звание, форму наденешь, дом поставишь себе…
Четыре месяца я прожил у него, и все четыре месяца он меня уговаривал. Мне не хотелось обижать старика, и я делал вид, будто на самом деле соглашаюсь идти в лесничие. Когда я осенью собрался уезжать, он даже заложил свою двуколку: