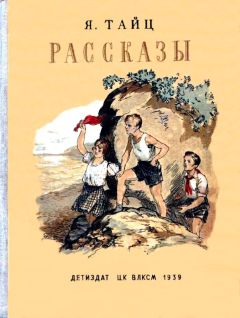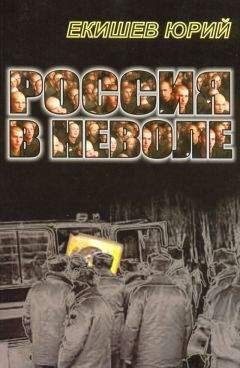— Так и быть, сынок, подвезу тебя до станции. Все-таки — будущий лесничий!
Я уложил сделанные за лето картинки, и мы покатили по знакомой дороге.
Березы теперь были разные — желтые, оранжевые, красные… Поле было убрано. В деревне шумела молотилка. Ветер донес до нас обрывки соломы, кусочек песни:
Вдруг за нами погнался мальчишка. Сквозь пыль мелькала красная рубаха, взлохмаченная голова:
— Дяденька-а!.. Погоди-ите!..
Игнат Петрович придержал коня. Мальчик подбежал запыхавшись:
— Я тебя сразу узнал: и очки, и ящик, где краски… Иди к нам, нарисуй Чапаева на лошадке! А то я тогда позабыл…
Я поднялся на крылечко. В избе было чисто, светло. Стены, окна, двери — все было побелено и покрашено. Семья сидела за столом.
Вася весело закричал:
— Танька! Тятя! Это который лошадку…
— Милости просим, — сказал Васин отец и усмехнулся. — Задали ж вы мне работу! Стал я красить дверь, плач поднялся: «Тятя, не трожь лошадку, не трожь!» Пришлось схитрить.
Я оглянулся на дверь. Там, как и четыре месяца назад, мчалась нарисованная мелом лошадка. Вокруг нее был оставлен четырехугольник, и получилось, точно картинка висит на двери.
Я подарил им небольшой этюд и вернулся к старику. Мы поехали.
— Игнат Петрович, — сказал я, — не взыщите, я решил все-таки при своем деле остаться, при художестве!
И рассказал ему про лошадку.
Старик молчал, точно прислушивался к далекому стуку молотилок т и к затихающей песне:
По лагерю прошел слух, будто недалеко, за Голым мысом, отдыхает в военном санатории знаменитый летчик. Отряды заволновались. На пляже состоялся чрезвычайный сбор.
После коротких прений постановили:
«Направить в санаторий боевую разведку. Разведчикам проникнуть к летчику во что бы то ни стало! Упросить его приехать в лагерь хоть на недельку, хоть на денек, хоть на часок, хоть на пять минут…»
Разведчики — Петя Голованов, Оля и Юфат — сели в белую с красным моторку, отдали салют и умчались в голубую даль исполнять боевой приказ.
А сбор остался на пляже — загорать, или, как выразился
Кешка, обугливаться. Сам-то он давно обуглился. Полный титул его такой:
Капитан Освода,
Гроза морей,
Викеша-головеша.
Сейчас, пока отряды на суше, Осводу делать нечего, и «капитан» загорает вместе со всеми. Солнце печет вовсю. Ребята не говорят «солнечная ванна», а — «солнечная баня».
Дежурный «солнечный банщик», очкастый пионер Боря Гусь, сверкая рупором и громадными роговыми очками, командует:
— На бочок! На животик!
Он снял очки и потер переносицу — там, где белеет узенькая незагоревшая полоска. Та самая, про которую ребята говорят: «Единственное светлое пятно на темном фоне».
Без — очков Боря становится смешной и беспомощный.
Вместо моря его близорукие глаза видят сплошной синий туман, а вместо гор — серую бесформенную массу… Он протер стекла, насадил очки на нос и скомандовал:
— Можно в море!
Ребята ринулись в воду. Волны стали с ними шалить: то шлепнут по спине, то окатят с головой, то пощекочут мелкой галькой по голому животу.
Кеша в синих «осводовских» трусах и шапочке следит за купальщиками. То и дело, однако, он отводит глаза и глядит на Голый мыс. По горизонту прошел теплоход, промчался торпедный катер, проехали рыбаки, а лагерной моторки все нет! Вдруг кто-то закричал:
— Едут! Едут!
Из-за Голого мыса вынырнула красно-белая моторка с гордо поднятым носом. Она везла песню:
Ветер, буря, ураганы,
Ты не страшен, океан:
Молодые капитаны
Поведут наш караван!
Песня быстро шла к берегу.
— Эй вы, молодые капитаны! — закричал Кеша. — Как санаторий?
На моторке нарочно не отвечали. Боря разозлился и закричал в рупор:
— Требую доложить: видели?
— Видели! — ответили с моторки. — Он простой такой, приветливый! «Еще приходите», сказал.
Моторка развернулась и, затихая, приближалась.
— А к нам?
— Ага! И к нам приедет. Сегодня же. После мертвого часа.
Ребята запрыгали:
— Качать разведчиков!
Шлепая по скользким камням, они подтянули моторку и вынесли «разведчиков» на руках. Петя, и Оля, и Юфат, захлебываясь и перебивая друг друга, стали рассказывать, как они подошли к санаторию, как их долго не пускали, как они объясняли, что они не просто, а от всего лагеря, как показался летчик, как он улыбнулся и взял Олю за руку — вот за эту.
Обеденный горн перебил их. Боря сказал:
— Идите, а я разочек купнусь.
В столовой Петя, Оля и Юфат без конца рассказывали, как они подошли, как их не пускали, как показался летчик, как он взял Ольку за руку — вот за эту, как сказал: «Обязательно приеду: ведь я тоже бывший пионер…»
А Боря пропал! Съели первое, расправились со вторым, уничтожили третье, взялись за виноград, а Бори все нет. Кеша с Петькой забеспокоились: мало ли что может случиться при его близорукости! Они побежали на площадку Верхнего лагеря — оттуда хорошо виден пляж. Ага, вот он, очкастый, — забавляется, камешки собирает.
Ребята хотели было побежать к нему, но тут горны запели «колыбельную»:
— Ложи-п-и-и-ись спа-а-а-ать!..
Стало тихо. Только пиликали цикады, сонно бормотало море и кто-то скрипел галькой, поднимаясь к столовой.
Это был Боря. Он шел, точно пьяный, натыкаясь на деревья. Иногда он останавливался и, щурясь, беспомощно озирался. Призрачный мир, туманные видения окружали его. Еле-еле добрался он до столовой, положил в чай две ложки соли с верхом и долго жаловался главному повару:
— Спиридон Иваныч, почему вместо чая подают морскую воду?!
Повар удивился:
— Где твои очки?
— Спиридон Иваныч, случилось несчастье: я нырнул сдуру в очках, а вынырнул… вот… без них…
— Ах ты, горе какое! — сказал повар. — Завтра поеду в Ялту, закажу тебе…
— Завтра! — простонал Боря и замигал. — Мне сегодня надо!
Он побрел к палаткам. Ребята спали. С горя он тоже заснул. Ему приснились замечательные очки, сквозь которые видно за много километров. А когда проснулся и стал привычным движением нашаривать на тумбочке очки, — вспомнил все и ужаснулся.
Синими пятнами мелькали ребята. Они бежали на Костровую площадку встречать героя. Боря подошел к «пятну»:
— Ты кто?
— Я — Женя.
Он подошел к другому:
— Ты кто, Петя?
— Нет, я — Маня!
Знакомая Костровая площадка, усеянная пионерами в галстуках, показалась ему гладким ковром с расшитыми по синему красными узорами. Наконец его провели к своим.
— Где пропадал? — сказал Кеша. — Садись, отсюда хорошо видно!
— Мне теперь отовсюду хорошо видно, — горько усмехнулся Боря. — Нырнул я сдуру в очках, а вынырнул…
Вдруг голосистое «ура» покатилось по трибунам. Заиграли трубы, фанфары, загремели барабаны. Все встали и захлопали, захлопали…
К трибунам, улыбаясь пионерам, легкими шагами двигался бесстрашный летчик, перелетевший с двумя товарищами через полюс в Америку.
Боря тоже хлопал, хотя, как ни щурился, видел вместо летчика только смутную белую тень.
Кеша сиял:
— Гляди, — сказал он, — орден у него! Ленина!
— Чудак ты, — сказал Боря, — ведь я не вижу!
Летчик стал рассказывать про перелет. Боря мрачно молчал. Все слушали. А Кеша раз пятнадцать оглядывался то на летчика, то на понуро сидящего Борю. Потом он вздохнул и сказал тихо и решительно:
— Пошли! Быстро!
— Куда?
— Туда! Где купался! Только быстро!
Они выбрались из рядов и понеслись к пляжу. Боря спотыкался и хватался за Кешу.
— Я там… курганчик каменный насыпал… чтобы заметка была…
— Ладно, только ходу! Ходу!
Кеша на берегу сбросил с себя майку и торопливо нырнул в теплую прозрачную воду. Боря сидел на «курганчике» и безнадежно щурился. Где-то там, в синем тумане, раздавались то плеск, то глухое Кешино ворчанье:
— Из-за тебя, очкастый, копайся здесь!
Все-таки он нырял снова и снова… Вдруг он заорал:
— Пляши, очкастый, пляши!
Он выскочил на берег и подал Воре целые очки:
— Экспедицию по подъему затонувшей оптики считаю законченной!
Боря схватил «оптику», наскоро протер ее и насадил на нос. Чудесный, потерянный было мир вернулся к нему. Коричневое пятно обернулось милым Кешкиным лицом, горы снова покрылись садами, виноградниками, кипарисами, вдали белели родные палатки, море стало как море, и каждая, даже самая маленькая, волна на нем была отчетливо видна.