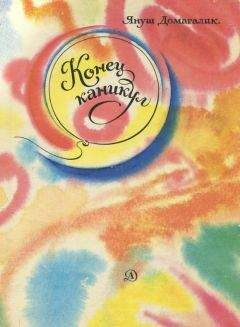А будь она здесь, что тогда? О чем с ней говорить? Рассказать все с самого начала… Что значит «все»? Да и знаю я только конец: мне велят отсюда уехать. И только об этом могу сказать Эльжбете.
А что я скажу отцу, когда он придет? Спрошу… Нет, спрашивать ни о чем не стану. Раз не хотят говорить, пусть не говорят. Не касается меня все это, не касаются меня их дела.
Скажи они нормально, по-человечески: «Юрек, мы разводимся, мама отсюда уезжает, что ты об этом думаешь?» — тогда я мог бы с ними поговорить. А теперь? Мне остается только выслушать, на какой день назначен отъезд… Нет. Я сам скажу, что хочу уехать как можно скорее, завтра, послезавтра. И пусть все это кончится…
— Юрек! — услышал я вдруг.
Это кричала Ирка. Она шла по другой стороне улицы, увидев меня, перебежала дорогу.
— Почему у тебя такой вид? Заболел, что ли?
— Почему заболел?
— Не знаю, мне так показалось…
— Чего тебе надо? Зачем кричала? Ирка покачала головой:
— Что с тобой? Даже заговорить нельзя? Ты совсем ума лишился из-за той девочки…
— Не болтай, Ирка… Говори, чего надо?
— Ничего не надо… Нет, надо! Надо, чтоб она уехала… Это из-за нее ты со всеми ссоришься, из-за Эльжбеты. Зенек так сказал сегодня Збышеку. Ребята говорят, ты совсем сбрендил!
Что мне с ней разговаривать? «Зенек сказал… Ребята говорят…» Пусть говорят что хотят. Какое мне дело? Меня больше не интересует, что они обо мне думают…
— Могу тебя обрадовать, скоро нечего будет обсуждать! — сказал я. — Я уезжаю отсюда. Ясно?
— Куда? — удивилась Ирка. — Ты уезжаешь или она?
— Я, В Австралию… — И я пошел прочь.
— Слушай, Юрек! — послышалось за спиной. — Лепишевская всюду тебя ищет! Это я и хотела тебе сказать, а ты сразу спорить!
Старуха Лепишевская и в самом деле торчала в окошке. Стоило мне появиться во дворе, она закричала:
— Наконец-то пришел! Иди скорей наверх!
Она вышла на порог своей квартиры. И, вне себя от волнения, зашептала, точно это была бог знает какая тайна:
— Представь себе, ксендз у меня уже с полчаса дожидается! Тебя дожидается!.. На что это похоже?
— Рай не уговаривался, пусть ждет, — буркнул я хмуро. — Да и о каком ксендзе речь? Чего надо от меня ксендзу?
Я подумал о нашем приходском ксендзе. Что же это он, из-за тех яблок сюда притащился? Тоже мне дело — десяток зеленых яблок сорвали мы с ребятами у него в саду. Ну, при этом ветки поломались… Год прошел, а он все еще помнит. У Зенека три дня живот потом болел… Отрава — не яблоки! Кто ему мог наябедничать через год? Этого только сегодня не хватало…
— Ну, где этот ксендз? — спросил я.
В том настроении, в каком я был, я мог поскандалить с каждым из-за чего угодно. Тем более из-за прошлогодних яблок…
Лепишевская нырнула в свою квартиру, и оттуда вышел викарий Майхшак. Поблагодарил ее, как он выразился, «за гостеприимство» и обратился ко мне:
— Есть у тебя ключ от своей квартиры? Ну так поднимемся к тебе, у меня дело…
Лишь в квартире я заметил, что у викария в руках старый пузатый портфель, в котором что-то шевелится.
— Нет, нет, садиться не буду. Мне некогда, достаточно там насиделся! — заявил он. — Жаль, что нет отца… А может, так удобнее… Я, понимаешь ли, принес тебе шесть почтовых, самые лучшие. Отнеси их сразу в голубятню, чтоб не задохнулись.
— Не понимаю: шесть почтовых? А что с ними? — начал я, ужасно удивившись.
Но Майхшак замахал по-своему руками:
— Только не спрашивай ни о чем. Отнеси на чердак, и все. Сколько будет теперь у тебя вместе с твоими, а?
— Сколько? Ну, сорок три…
— Вот, видишь! Это уже кое-что. Только присматривай за почтовыми, ладно? Чтоб с голоду не передохли…
— А вы что, тоже уезжаете?
— Что значит «тоже»?
Но я не ответил. Тогда он смерил меня долгим взглядом и пробурчал:
— Ну, разумеется. У каждого свои огорчения… Лучше не спрашивай. Заставили меня, понимаешь? И чем епископу мои голуби помешали? Можешь ты объяснить? Старухи святоши бегают жаловаться к приходскому, дескать, на пальцах свищу. А как голубей вспугнешь? На флейте им играть? Эта баба тоже, наверно, сразу донесет, потому что заворковали у меня в портфеле, пока у нее сидел…
И грустно и смешно. Майхшак был сам не свой, уж, наверно, не так легко отдавать своих лучших почтовиков. Никогда еще я с ним так долго не разговаривал, не знал его — ксендз, и все тут. Иногда только забежишь в дом к приходскому, чтоб про какого голубя спросить. Всем в Божехове известно: викарий Майхшак держит голубей. Почему именно мне отдает он своих почтовиков? И вдруг меня осенило:
— Здорово я тогда вас подвел с нашим Рыжим, а? Я слышал, как приходский сердился; что ж, с тех пор и пошло? Простите, я его тогда не заметил…
— Не твоя это вина, раньше или позже — все равно бы так случилось… Переводят меня. Не о чем говорить… — ответил он каким-то странным голосом. — До свидания! — И вышел.
Я не успел даже спросить, что мне делать с портфелем. Сперва послышался быстрый топот по ступенькам, а потом голос Лепишевской:
— Слава Иисусу Христу!
— Во веки веков, — донеслось уже снизу.
«Это он так ко мне из-за подлеца Рыжего, — подумал я, заглядывая в портфель, — Надо же, именно мне принес лучших голубей… Может, ему так на исповеди велели? Чтоб было наоборот: чтоб не ругал меня, а подарил голубей… А на кой черт мне теперь его голуби? Даже лучшие?»
Лепишевская дежурила уже у дверей.
— Ну и что? — спросила она тем же шепотом. — Чего нужно было от вас ксендзу?
Не знаю, почему это взбрело мне в голову. Ни с того ни с сего я сунул ей под нос портфель и сказал с досадой:
— Доллары принес. Хотите посмотреть? Банк ограбил и принес на хранение!
Папаша Зенека Козловский, который драй а карбидную лампу в коридоре у окна — как видно, перед вечерней сменой, — громко загоготал.
— Здорово, Юрек! Молодец! Видите, Лепишевская, не в каждую дырку можно совать свой богоугодный нос. Хорошо он вас отделал!
Та даже подпрыгнула от ярости и замахнулась на меня, но я шмыгнул по лестнице на чердак, Наверху, открывая висячий замок, я слышал, как все еще гоготал Козловский, пока старуха пыталась сорвать на нем злобу:
— Старый хулиган! Голова седая, а сам как мальчишка!
— Я старый? Да я, по крайней мере, на пять лет вас моложе. Думать надо, Лепишевская, что говорите, — так он поддразнивал ее, впрочем, при каждой встрече в коридоре или на лестнице и все смеялся. Смрад от карбидной лампы разносился по дому.
…И вот я здесь, в своей голубятне, где ничего худого не может со мной случиться, куда прихожу всякий раз, если бывают неприятности, У меня уже сорок три голубя, это очень много. Если б, скажем, еще три недели назад кто-нибудь подарил мне шесть первоклассных почтовиков, я б не знал, кому раньше похвастаться…
Я прислонился спиной к сетке, которая отделяла голубятню от остального чердака. Она прогибалась под тяжестью, приятно пружинила. Я смотрел на голубей, а те на меня… Здесь и Рыжий. Умей он говорить, что бы он мне сейчас сказал?
Сказан бы, наверно, обманули тебя, обманули! И ты, щенок, из-за этого в обиде на весь мир. Никому до тебя дела нет. Кто тебе остался? Только я да эти голуби… Ну кто еще? Мать, которая уехала, ничего не сказав, потому что боялась сказать? Или бабка с ее припадками ярости и обедами в три часа? Или дед, который со спокойной, душой советовал тебе не пытаться понять родителей? Или, может, та девочка, которая скоро отсюда уедет, потому что каникулы уже на исходе? Ну кто тебе остался? Отец?
Отец… «Приходи ко мне со всем, что у тебя есть…» Да, приходи… А ты с чем ко мне пришел? Где ты был, когда надо было сказать самое важное? Почему согласился на мой отъезд? Теперь поздно говорить. Ладно, я уеду отсюда! Ничего здесь от меня не зависит, все происходит у меня за спиной. Передают меня из рук в руки, как чемодан…
Голуби смотрели на меня, а я на Рыжего. Столько раз он удирал, но потом возвращался в свое гнездо… Глупый, обыкновенный голубь, а вот поди ж ты, есть у него свое гнездо. А у меня что? Голуби… И все?
Поначалу эта мысль бродила как бы вокруг, в отдалении, боясь приблизиться. А может, я сам ее отгонял, потому что чувствовал: мысль плохая. Но теперь я понял: мне от нее не избавиться! Я встал и распахнул оконце. И одного за другим выбросил всех шестерых голубей Майхшака, И каждый, почувствовав воздух под крылом, взмывал вверх, точно по нему выстрелили из рогатки.
Я открыл еще одно окошечко и еще одно. В голубятне поднялся переполох. Улетел Рыжий, за ним другие. Тех, которые топтались на доске, словно раздумывая, сталкивал я сам. Мной овладело ожесточение. Я бегал по голубятне, вырывая дверки клеток, переворачивая миски с водой. Голуби пугались; трепеща крыльями, метались как безумные по чердаку. Туча птиц, и я посредине. И все гоню и гоню их из клеток…