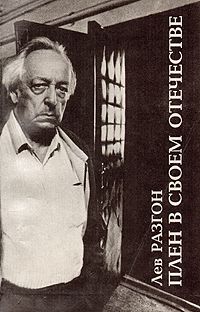Мудрено ли, что учителя не могли нарадоваться на Клавочку! Она приходила в школу всегда чистенькая; в аккуратненьком коричневом платьице — ну конечно, не гимназической форме, но так на нее похожей… Клавочка всегда подымала руку, прежде чем что-либо спросить у учителя; она всегда знала урок и отвечала его тихоньким голоском — «так сладко, чуть дыша», как говорили про Клавочку ее завистливые подруги. Они даже утверждали, что Клавочка, прощаясь с учителями, приседает и делает реверанс!.. Ну, это они врали! Клавочка реверансов не делала. Но она была очень послушной девочкой, и не было такого дня, когда бы дома Сергей Петрович, ее отец, не высказывал сожаления, что нет сейчас больше ни гимназий, ни прогимназий, ни, на худой конец, епархиальных училищ, где его Клавочка могла бы получить достойное воспитание, чтобы «выйти в люди»… И Клавочка старалась, она очень хотела выйти в люди, и учителя, провожая глазами вежливую и примерную Клавочку, удовлетворенно говорили: «Сразу видно, что из хорошей семьи!»
А Клавочка не знала, что это значит — «хорошая семья». Отец ее до революции был приказчиком у богатых купцов Бугримовых — им принадлежали все мельницы в округе. И жили они не так чтобы богато, но старательно. Очень отец старался, чтобы у них все было «как у людей». И чтобы его единственная Клавочка была во всем похожа на дочерей его хозяев, на дочерей уважаемых в городе личностей: нотариуса, податного инспектора, исправника, законоучителя… И очень гордился, что, несмотря на неурядицы революционного времени, по его дочери сразу же видно, что она «из хорошей семьи», а не из семьи какого-то приказчика.
В волховстроевской конторе тоже дружно решили, что Клавочка «из хорошей семьи». Даже машинистка Аглая Петровна, таинственно намекавшая на свою принадлежность к «высшим кругам общества» и очень сведущая в чем-то сложном и неопределенном, что она звала «хорошим тоном», даже она благосклонно относилась к Клавочке. Через несколько дней после поступления Клавочки на работу она ее осмотрела внимательно-снисходительно с ног до головы и сказала:
— Голубушка, так нельзя одеваться! Вы ведь не из этих, вы из хорошей семьи, уже барышня, и надо, чтобы ваша внешность соответствовала хорошему тону… Ну кто же, кроме фабричных, носит такие длинные платья? В цветах! Это надо перешить. Вот здесь убрать, тут вот сделать оборочку, а здесь хорош был бы бантик из цветного батиста. Если у вас нет, милочка, я вам принесу…
Клавочка вспыхнула и смущенно поблагодарила. Но не только Аглая Петровна — все в конторе были благосклонны к новому делопроизводителю. И начальство ее — старший делопроизводитель Степан Савватеевич Глотов довольно говорил Клавиному отцу: «Мы из твоей Клавочки, Петрович, настоящую барышню сделаем!» И, объясняя Клаве, куда надобно вписывать «исходящие» бумаги, а куда «входящие», умильно заглядывал ей в глаза и со вздохом говорил: «Да разве раньше такую барышню кто пустил бы служить!» И с укором подымал глаза к потолку.
У Глотова было не только странное отчество, он и весь был не похож на других. Ни у кого не было такого френча — с огромными накладными, в складках, карманами. Никто на стройке, кроме него, не носил блестящих краг — в ремнях, со множеством медных крючков. Никто, кроме него, в конторе не ходил в ресторан «Нерыдай» и утром не сравнивал новые ресторанные порядки с теми, какие были в старых петербургских ресторанах со странными названиями «Донон», «Кюба»… Глотов был противен Клаве до тошноты, но она помнила отцовский наказ: быть со своим начальством примерной и послушной.
Словом, все было хорошо, пока не появился рыжий Юрка. К конторе, собственно, Юрка никакого отношения не имел. Он работал на экскаваторе помощником машиниста и в контору приходил раз или два в неделю выписывать сведения на комсомольцев — кто сколько выработал… Но Юра был очень заметным парнем на стройке. Не только потому, что таких огненно-рыжих волос ни у кого на Волхове не было, — Юрка был парнем из Питера и самым главным заводилой у комсомольцев да и у всех ребят на стройке.
Клава никуда из конторы не уходила и свято выполняла отцовский наказ: «держаться своей компании»… Но на стройке все всё знали про всех. И Клавочка знала, конечно, всех главных комсомольцев. И секретаря ячейки — хромого взрывника Григория Варенцова, и главного комсомольского оратора, выступавшего на всех митингах, — Петра Столбова, и табельщицу из инструменталки — задорную Ксению Кузнецову, хохотушку в красном платочке.
Ну, а все-таки самым заметным комсомольцем был Юра Кастрицын. На всех собраниях, митингах, воскресниках, демонстрациях, на работе, в клубе — всюду мелькала его огненная голова и слышались любимые Юрины слова, употребляемые им во всех случаях жизни: «Словесной не место кляузе».
Увидев в конторе Клаву, он весело воскликнул:
— О! Конторская армия получила молодое пополнение! И как вас зовут, молодое пополнение?
— Клавочка… То есть Клавдия Попова, — смущенно ответила Клавочка.
— И вам не скучно, Клавочка Попова, совбарышней тут служить?
— Молодой человек! — скрипучим голосом вмешался в разговор Глотов. — Вам никто не позволит оскорблять советскую служащую товарища Попову и обзывать ее совбарышней! И вообще, товарищ Егор Кастрицын, сведения вам надлежит выписывать у товарища Лебедевой, товарищ же Попова к ним отношения не имеет!..
— Словесной не место кляузе! Когда меня попы чуть не утопили в купели, пользуясь моим малолетством, они меня окрестили Георгием, а не Егором. Это — раз! А в-седьмых, товарищ Глотов, не мешайте мне проводить массово-воспитательную работу среди беспартийной молодежи! Клавочка! Он уже вам рассказывал, что краги у него точно такие же, как у Керенского? И что в ресторане «Донон» ему подавали лангустов и осетрину по-монастырски?
Но Клавочка, робко оглянувшись на побагровевшего Степана Савватеевича, ничего не ответила веселому рыжему комсомольцу. Она уткнулась в свои «исходящие» и сделала такое же каменное лицо, какое делала Аглая Петровна, когда в контору приходили нелюбимые ею рабочкомовцы. И в другие дни, когда приходил Юра и пробовал с ней разговаривать, она опасливо смотрела на старшего счетовода и не отвечала на веселое Юрино приветствие: «Привет конторе! Словесной не место кляузе!..»
И тогда все началось. Переписывая свои сведения. Юра начинал, сначала тихонько, а затем все громче петь назойливую песенку:
Клавочка служила в Упека,
Клавочка работала слегка,
Юбочка недетская, барышня советская,
Получила карточку литер «А»…
— Невежда! Ком-со-мол! Вот такие сейчас хозяева положения! Их бы раньше к порядочному обществу близко не подпустили! — утешал Клавочку Глотов, когда за Кастрицыным закрывалась дверь (при Юре он боялся высказываться гак категорически).
Но Степан Савватеевич не мог утешить Клавочку. Она задыхалась от обиды, от злости на рыжего Юру. И ни в какой Упека она не служит, и никакой литерной карточки она не получает, и вообще, что это за глупое название — советская барышня! Она записывала все, и даже самые важные бумаги, приходящие на стройку! И один раз даже сам Графтио пришел к ней и по ее «входящей» книге посмотрел, когда пришла одна очень важная бумага из Промбюро!.. И вместе с ней работают «очень, очень ин-тел-лигент-ные люди», как сказала про них Аглая Петровна.
Но противный рыжий Юрка этого понять не мог. И каждый раз, сидя за большим столом в углу и быстро записывая фамилии и цифры, рыжий парень нет-нет, а поглядит на старательно склонившуюся голову Клавочки и тихонечко начинает мурлыкать ненавистный Клавочке мотив!.. И все громче звучат обидные слова нелепой песенки:
Все любят Клавочку, все просят справочку.
На «исходящих» Клавочка сидит.
С утра до вечера ей делать нечего,
И стул под Клавочкой так жалобно скрипит…
И с этим уже ничего нельзя было поделать… Самое обидное во всей этой истории было то, что в песенке все было почти правдой… И не в том дело, что все в конторе любили Клавочку и все у нее просили справочку… И не то, что она и вправду клала на стул толстую книгу «исходящих» — ведь стул был низкий и неудобный, — беда была в том, что, если уж говорить правду, Клавочка работала очень слегка… Конечно, это вранье про нее, что с утра до вечера ей делать нечего… Клавочка очень добросовестно вписывала в свои книги всю почту, писала медленно, старательным и красивым почерком, за который она получала самые лучшие отметки в классе. Но она могла бы это делать и в пять раз скорее. Только бессмысленно было торопиться, потому что остальное время некуда было девать… Ее начальник, Степан Савватеевич, мог бы и сам это делать — старший делопроизводитель большую часть дни читал газеты, разговаривал с сослуживцами или же приносил с собой романы графа Салиаса и озабоченно, с крайне деловым видом читал их.