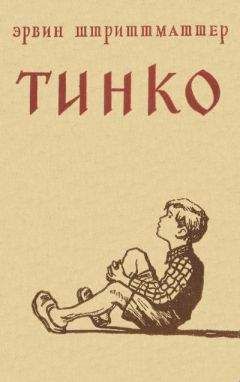Фриц Кимпель, значит, хочет выкупить мой велосипед. Я кричу Фимпелю вслед:
— Фриц тебе гусениц вместо денег даст, Фимпель-Тилимпель! Монетки у него заколдованные!
Фимпель сует руку в карман, и его передергивает, будто карман у него в самом деле полон гусениц.
Дождь усиливается. Все вокруг делается как будто меньше. Проходит два дня. Дождь моросит не переставая. Дедушка ходит по комнате, точно медведь в клетке. Наш солдат нарезал новые зубья для граблей и теперь вычищает курятник. У кур повисли хвосты; они долго раздумывают, прежде чем ступить на мокрую землю. Дома теперь хорошо. В печке потрескивает огонек. Небо закуталось в серый дождевик, по стеклу сбегают капли, точно слезы по щекам.
Отпуск у фрау Клари кончился, на дворе не слышно больше ее смеха. Никто не гладит меня по голове. Пусть уж наш солдат женится на ней: тогда она всегда с нами будет. Только не надо, чтобы он гладил ее. Стефани где живет, там пусть и остается. А если наш солдат захочет видеть ее, пускай сам в замок идет.
Через три дня снова показывается солнце. Над лугами поднимается пар. Ласточки взмывают ввысь, под самое солнышко. Их выводок летает уже самостоятельно, и у них теперь много времени. После полудня они длинными рядами сидят на проводах и болтают о том о сем. Хоть у них и нет велосипеда, а все равно они до самой Африки доберутся.
Ласточка фью, фью —
На жердочку летит.
Уселась на краю,
Сидит и вдаль глядит.
Ласточка фьють, фьють —
Опять летит стрелой…
Щебетунья, в путь
Меня возьми с собой!
Дедушка пока еще не придумал работы для меня, и я свободен. Что бы мне такое сделать? Я шлепаю по деревенской улице. С таким человеком, как Фриц, который способен тайком выкупить мой велосипед, я больше играть не стану. К другим ребятам мне тоже не хочется идти — они дразнятся. Может быть, хорндорфские мухоловы примут меня в свой школьный союз? Сперва-то, конечно, они меня как следует отколотят.
В окошко высовывается фрау Вунш. Она подзывает меня.
— Пуговка заболел, фрау Вунш? — спрашиваю я.
— Тео у бабушки в Зандберге.
— Да?
Фрау Вунш — маленькая, худенькая женщина. Носик у нее совсем крохотный и словно точка посреди лица. На своего Пуговку она не налюбуется, он ей к сердцу прирос. А я? Ни к кому я не прирос! Фрау Вунш подает мне скатанный мешок:
— И скажи спасибо отцу за то, что выручил. Пусть не сердится, что мы мешок так долго не возвращали. Теперь-то у нас опять своя картошка. Не забудешь сказать спасибо?
Я засовываю мешок под мышку и спрашиваю:
— А яйца вас тоже выручили?
— Это ты о каких яйцах?
— О тех, что вам наш солдат приносил.
— Солдат? Кто это?
— А тот, что вам картошку приносил.
— Твой отец?
— Ага.
— Да-да, яйца тоже. Ведь мы и не просили его, а он сам принес. Мы не попрошайничаем. Да и подарков таких, что неспроста делаются, ни от кого не принимаем. Так иной раз товарищ выручит…
Я ничего не могу понять: что это за яйца, которые неспроста делаются? Фрау Вунш прямо загадками говорит. Но наконец-то я знаю, куда наш солдат таскал картошку и яйца! Пусть теперь попробует сказать что-нибудь про мой табель — я ему тогда про яйца скажу! Дедушка все вдребезги разобьет, если узнает, что Вунши наши яйца едят.
Дедушка ненавидит Вунша потому, что тот председатель партии. Вунш и его партия были неблагодарны к дедушке. Все они еще под стол пешком ходили, когда дедушка боролся за справедливость. А с тех пор как дедушка вышел из ихней партии, несправедливости на свете все больше становится. Теперь уж вон до чего дело дошло: требуют, чтоб он сдавал зерно, которое еще в бабках в поле стоит. Вот ведь какая несправедливость!
Сквозь кусты я вижу застиранную юбочку Стефани. Вот некстати… Конечно, она уже увидела меня, сейчас начнет дразниться. А я возьму и накину ей на голову мешок. Но Стефани не дразнится. Забыла разве, что я второгодник? Вон она просунула свои узенькие ручки через плетень и рвет цветы в саду у каретника Фелко. Это, конечно, не настоящие цветы, а так, сорняк всякий: васильки, дикий горошек. Но все равно фрау Клари будет приятно, когда она с работы придет. Я спокойно сворачиваю в трубочку свой мешок и стараюсь пройти мимо Стефани незамеченным: крадусь возле самых деревьев. Вот ведь! Стефани обернулась и подходит прямо ко мне. Чего ей надо? Что это она смеется? Лицо у нее коричневое, как пасхальное яичко, которое луком натерли. Спереди у нее не хватает одного зуба, но новый уже наполовину вылез.
— Ты еще сердишься? — спрашивает меня Стефани.
— А вы женитесь на нас?
— Моя мама сказала, что вы заслуживаете участия.
— Правда сказала?
— Правда.
— Ну, значит, вы на нас женитесь.
— Нет, этого она не говорила.
— А тебе надо сидеть дома, а то у нас и так спать негде.
— А я и так всегда дома сижу. Дедушка твой эгомист. Он все себя за локоть укусить хочет — вот чего мама еще сказала.
— Да нет, он у нас не кусается, он только от своего табака кусочек за кусочком откусывает.
— Вввау! Вввау-вау!
Мы так и вздрагиваем. Это Фриц Кимпель спрыгнул с забора прямо на нас. В карманах у него что-то побрякивает, будто там стекляшки.
— Кто пугается, тот намается! — кричит он и страшно рад, что мы на самом деле испугались. Нахально так посмотрев на Стефани, он говорит: — Убирайся! Не видишь разве, у нас тут с ним мужской разговор пойдет.
— Подумаешь! — фыркает Стефани, закидывает голову и нерешительно отходит.
Мне Фриц заговорщически шепчет:
— Нам надо что-то предпринять. Они всё еще дразнятся.
— Стефани не дразнится. Маленький Кубашк тоже.
— Эти не в счет. Зепп-Чех дразнится, и Белый Клаушке. Это все потому, что нас Шепелявая околдовала. Совсем нас опозорила!
— Я с тобой больше не вожусь.
— Чего это ты?
— Ты мой велосипед хочешь перекупить.
Фриц задумывается, потом говорит:
— Я тебя на раме прокачу.
— Ни за что не сяду на раму к такому, как ты!
— А ты почему не взял заколдованных гусениц?
— Да ты сам небось их взял!
— Я… я… И вовсе я не брал их… А ты у меня все равно в руках, я тебя всегда могу утопить!
— Ты меня теперь только на пятьдесят пфеннигов можешь в воду окунуть, только вот до сих пор — до живота, не глубже.
— Нет, на семьдесят пфеннигов, по шейку, а потом я возьму и силой с головой окуну!
— Нет, только на пятьдесят пфеннигов. Гнёзда я тебе показывал? Показывал. Кошку ловить помогал? Помогал. А ты за все это не вычел мне из долга.
— А я вовсе и не хочу перекупать твой велосипед.
— Нет, хочешь. Мне Фимпель-Тилимпель сказал.
— Да, Фимпель-Тилимпель…
— Не ври, не ври, ты мышка-воришка! Ты у Шепелявой ее деньги стащил.
Фриц делается белый-белый:
— Это какие я деньги стащил?
— Шепелявой, ее деньги! Вот какие!
Фриц быстро сует сразу обе руки в карманы и пригибается, как для прыжка.
— Вот гляди — никаких денег я не брал! — кричит он и выдергивает сразу обе руки из карманов.
Что-то летит мне в лицо. Что-то звякает. Пышные летние облака медленно спускаются, придавливают меня все сильнее и сильнее. Я падаю на спину. Но падать мне почему-то совсем не больно. Вот только вздохнуть я никак не могу. Воздух стал слишком велик, он не пролезает мне в рот. Стефани кладет мне на грудь букетик цветов, опускается рядом на колени и плачет. Значит, я умер.
Умер я всего на два дня. Потом я снова стал живой. Но у меня все время болела голова. Стоило мне открыть глаза, как острая боль сыпалась на меня целыми пригоршнями иголок. Бабушка завесила окна горницы одеялами, чтобы солнышко своими лучами-колючками не впивалось мне в голову. Во сне я все метался и видел: Фимпель-Тилимпель едет на своем велосипеде, а у велосипеда колеса из гусениц. Это он за моим табелем приехал. Табель ведь так до сих пор и не подписал никто. Тут Стефани взяла да подписала, и я сразу перешел в другой класс и перестал быть второгодником. А коза Шепелявой все плевалась. Но плевалась она талерами из чистого золота. Фриц Кимпель подбирал талеры, подбрасывал их вверх, и они превращались в ласточек. Ласточки носились по небу и пели голоском Стефани: «Ласточки, ласточки, фьють! Ласточки, ласточки, фьють!»
Теперь мне уже лучше. Только что доктор опять приходил. Он сорвал у меня с лица пластыри, постучал по голове, что-то послушал в ней и сказал:
— Ну вот, дело и на поправку пошло!
— Неужто на поправку? — всхлипнула бабушка, вытирая фартуком слезы. В глазах у нее вспыхнул огонек надежды.
— Да-да, внучек ваш поправляется, матушка Краске! — ответил доктор и ушел.
— Бабушка, сегодня я съем десять яиц! Мне это раз плюнуть.