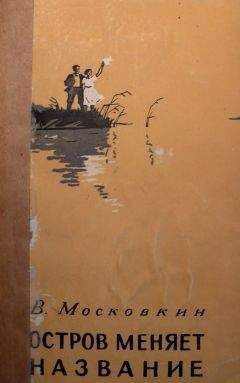И почему он так уверенно говорит? Как разобраться, где главное? Я хочу работать, чтобы было интересно, чтобы всегда чувствовать себя нужным, необходимым. Мне кажется, в этом настоящая жизнь. А Пашка уверяет — в другом. Причем, говорит не просто, что попало, а продуманно: убежден, что он прав. Я чувствую, что и Николай понимает жизнь по-другому.
Я перебираю в памяти знакомых, стараюсь определить, чем живет каждый из них.
Много хорошего у Алексея Ивановича Уткина. Ом заставляет себя уважать, потому что уверен во всем, что делает, уверен в себе.
Но мне больше по душе дядя Ваня Филосопов. Он знает, что нужен на работе, к его словам прислушиваются. Понадобится — отдаст с себя последнюю рубашку. Но ему не везет, и от этого он часто бывает недоволен и временами как будто обижен. В такие минуты ему кажется, что вокруг полно несправедливости.
Стремиться быть как Валентин Петрович? Но я его мало знаю, и мне трудно разобраться, что он за человек. Одно чувствую, что он очень добрый.
Раздумывая обо всем, я шагал за Пашкой и Корешком к тому товарищу, у которого был чиж. Давно за крышами домов спряталось солнце, там светлело небо с вытянутыми розоватыми облаками. По тротуару неторопливо разгуливали люди с беззаботными, оживленными лицами — радовались весне.
Мы свернули около школы и попали в глухую улочку. Это меня несколько удивило. Улочку я знал хорошо: тут живет доктор.
— Пашка, а он здесь? — спросил я с удивлением.
— Кто «он»?
— Ну, тот… твой товарищ?
— Здесь. Что, думаешь, просто так я тебя привел? Подождать немного придется.
Было не так холодно, но Пашка и Корешок подняли воротники, съежились. Мы отошли к дому, что стоял по соседству с докторским, и там сели на лавочку.
— Он еще с работы не пришел, скоро появится.
— Пашка, ты не спрашивал, чем он его кормит?
— Кого?
— Кого? Чижа, конечно! Мне даже не верится, что я сегодня возьму его обратно. Ты волынку тянул-тянул. Я уж думал, совсем зажилил.
— Сейчас тресну, если не замолчишь, — раздраженно сказал Пашка.
Я обиделся и замолчал. Но сидеть спокойно не мог: во всем теле чувствовалось напряжение. «Получить бы обратно, взять бы чижа, — вертелось у меня в голове. — Тогда я со спокойной совестью могу смотреть в глаза учителю».
— Сядь ты, раззява! — прошипел Корешок. По его голосу можно было понять, что он тоже возбужден.
В конце улицы показался человек. Он шел в нашу сторону, тяжело опираясь на палку.
— Вот, кажется, и товарищ, — взглянув на меня, сказал Пашка.
Я получше всмотрелся в прохожего, узнал. Да и как не узнать доктора, если он почти два месяца лечил маму!
— Ты ошибся, Пашка. Это доктор. Точно…
Едва успел я договорить, Пашка и Корешок встали.
— Сиди, а увидишь, побежим — тикай за нами.
Пашкины слова меня ошарашили. Зачем? Куда бежать? Что еще они выдумали? Все это мне хотелось спросить, но язык словно прилип. А они уже торопливо уходили от меня. Вот поравнялись с доктором, заговорили…
В следующую минуту я кричал, кричал долго и что — не помню. Я видел, как Пашка обхватил доктора сзади за плечи и стал валить на землю.
Мой крик вспугнул их. Ко мне бросился Корешок с искаженным от злобы лицом. Но то ли Корешок не рассчитал, то ли я удачно увернулся, я остался цел. Я бежал, не переставая кричать…
Напротив трамвайной остановки стоит двухэтажный дом из красного кирпича. Это бывший дом лавочника. В нижнем этаже и сейчас размещается магазин, вверху — народный суд второго участка. Говорят, в 1927 году здесь судили знаменитого бандита Грачева. Это было летом, стояла жара. Судья открыл окно и стал вести заседание. Внезапно, оттолкнув конвойных, Грачев, вскочив на стол судьи, притопнул ногой, как будто собирался плясать «цыганочку», и сиганул прямо из окна на тротуар. Каким-то чудом он не сломал себе ноги и не разбился. Когда оцепенение прошло, бросились его разыскивать, но Грачева и след простыл.
Может, поэтому в нарсуде не открывают теперь окон и даже на лето не выставляют вторые рамы, а подоконники заставлены фикусами.
Суд по делу Пашки и Корешка был открытым, пришло много народу. В углу, скрываясь от людских глаз, сидела убитая горем Пашкина мать — тетка Настя. Недалеко от нее застыла в строгом молчании Марья Голубина. Сухие губы ее были обидчиво поджаты, и впечатление она производила такое, будто сердилась на себя. Тетка Марья, наверно, вспоминала, как в корпусе все старались предостеречь Пашку, хотели устроить его на работу. И вот что из этого вышло.
Я сидел с Ниной, которая смотрела на все происходящее широко открытыми испуганными глазами.
Перед этим меня несколько раз вызывали к следователю, и я все рассказал, без утайки. И как познакомился с Пашкой и Корешком, как первый раз узнал, что они занимаются воровством, сообщил, чем стращал меня Пашка. Я не боялся, что меня признают соучастником грабителей. Мне было просто не по себе и особенно неудобно перед сестрой и учителем. С Ниной проще. «Не надо, не говори, я тебе верю», — остановила она меня, когда я пытался рассказать ей, как было дело. Следователь объяснил, что Корешок не раз сидел в тюрьме, на подозрении был и Пашка. Но его спасала осторожность — Пашка далеко не глупый. До поры до времени его не трогали, не было достаточных улик.
У следователя мне стало ясно, зачем Пашка выспрашивал все о докторе. Одного я не понимал: почему они старались всюду таскать меня за собой? Видно, им нужен был помощник. Они считали, вероятно, что я настолько связан с ними, что буду помогать во всех их делах.
В тот день доктор получил зарплату. Через кого-то они узнали об этом. Я им понадобился для того, чтобы действовать наверняка: доктора в лицо они не знали.
Я и сейчас не могу взять в толк, как они решились поднять руку на Радзиевского. Он столько сделал людям хорошего!
Я смотрю на доктора, который похудел за эти дни еще больше, ссутулился и постарел, и у меня появляется к нему чувство жалости и теплой любви. И никуда не денешься от сознания своей вины перед ним.
В большом судейском помещении напряженная тишина. Присутствующие затаили дыхание, когда ввели под конвоем наголо обритых, побледневших Пашку-Мухоеда и Корешка.
Тетка Настя сорвалась с места и с жалкой улыбкой попросила у конвойного разрешения передать Пашке еду и папиросы. Тот кивнул, и она обрадованно стала развязывать узелок. Пашка равнодушно принял у нее передачу и положил рядом с собой на лавку.
— Суд идет!
Все встали. Вошла судья, по-домашнему простая женщина с морщинками около рта, и с нею двое заседателей, тоже женщины, работницы фабрики. Одна из них приветливо улыбнулась Марье Голубиной. Они, видимо, хорошо знали друг друга.
Судья села, и присутствующие с легким вздохом опустились на скамьи…
Мне еще раз пришлось повторить, как было совершено нападение на доктора.
Потом государственный обвинитель, необыкновенно высокий и худой человек в форменном костюме, убедительно говорил о вреде, который наносят обществу правонарушители, требовал подсудимым тяжелой меры наказания. Я заметил, что многие присутствующие одобрительно кивают в такт его словам. Но вот стал выступать защитник, средних лет человек с умными глазами и негромким приятным голосом; он принялся защищать подсудимых, и опять расчувствовавшиеся слушатели закивали головами.
Много часов продолжался суд. Когда доктор сказал, что отдавал деньги добровольно и все же его ударили, зал загудел. Сообщение Радзиевского было явно не в пользу защиты. Но защитник снова поднялся и с невозмутимым видом стал просить суд, чтобы Пашке и Корешку смягчили наказание.
И вот наступила минута, когда у самых твердых по спине пробежал холодок. Приговор!
Суд приговорил каждого к тюремному заключению. Это значит, сейчас они не смогут пойти, куда им захочется, работать там, где хочется. Страшно подумать!
Грохнулась на пол мать Пашки-Мухоеда — тетка Настя. Ее подняли и стали успокаивать. Защитник сказал ей, что это еще не конец, следует послать кассационную жалобу. Тетка Настя безропотно слушала его, но по глазам было видно, что она уже не станет никуда ничего посылать.
Я смотрел на Пашку. Лицо у него побелело, но все же он пытался улыбаться. Корешок держался нахальнее. Во взгляде его было что-то бесшабашное и презрительное.
Из суда я вышел вместе с Ниной, притихшей и молчаливой.
На небе ослепительно яркое солнце. Тепло. У рабочего клуба дряхлый старичок в лихо надвинутой на затылок шапке наклеивал на щит афишу, объявляющую, что будет «Весенний молодежный бал с шутками и смехом. Для скучных явка не обязательна».
Афиша сразу собрала толпу, и было понятно, что успех вечеру обеспечен.
Мимо нас прогромыхал трамвай, битком набитый людьми. Навстречу шли рабочие со смены. Женщина в светлом летнем пальто толкала перед собой детскую коляску.