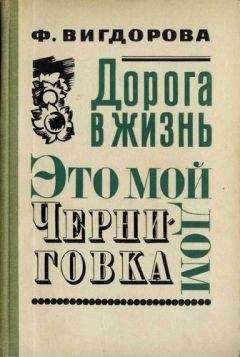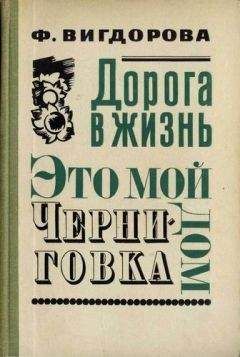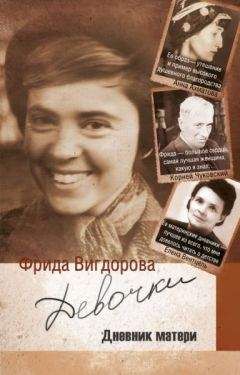– Позовите врача.
– Он на обходе, как кончит – придет. Подождите маленько.
У Даши были жалостливые глаза. Теперь ей, видно, хотелось говорить. Но я не хотела и не могла слушать.
Врач – маленький, сухой старик (он работал в Ожгихинской больнице уже более тридцати лет) – сказал:
– Форма, по-видимому, не тяжелая. Но сыпняк сильно подорвал здоровье. И скарлатина тоже может сказаться на сердце. Угадать трудно. У мальчика не выдержало сердце. Он был обречен с самого начала. Я не стал говорить ни вам, ни Ирине Феликсовне. Но он был обречен. А девочкам вашим лучше. Тут, я думаю, особых огорчений не будет.
Я шла на тяжелых лыжах, тяжелым шагом. Дорога была длинной, небо серым, снег темным. Подойдя к городу, я сняла лыжи и пошла пешком. На Незаметной улице меня догнал Велехов, заглянул в лицо. Потом молча взял лыжи и понес.
Дома нас ждал Владимир Михайлович.
– Сережа? – сказал он только и тяжело опустился на стул.
* * *
Возвращаясь из Ожгихи, я обычно заглядывала к Анне Никифоровне Валюкевич. Я передавала ей записки от Иры, добросовестно повторяла, что сказал врач. Она ожидала меня с страстным нетерпением. Глядя на Анну Никифоровну, я понимала, что вся ее жизнь сосредоточена на одной мысли, на одном чувстве.
– Знаете, – сказала она вскоре после смерти Сережи, говорят, у каждого человека есть невидимая свеча – это его жизнь. Догорит она – и человек умирает. Для меня такая свеча – Ирина. Если ее не станет, и я не смогу жить.
Я молчала.
– Вы сурово молчите, – промолвила Анна Никифоровиа. – Я понимаю: война, в наше время так говорить грешно. Умер Сережа, а его отец жив и воюет. Но я не знаю, хватит ли у меня мужества жить, если…
И однажды, придя в больницу, я застала там Анну Никифорову.
– Я сняла тут, в Ожгихе, комнату, – ответила она на мои молчаливый вопрос. – У меня нет сил целый день не знать. А тут я могу и утром прийти, и среди дня, и вечером. И принести, если что надо. Хотите их видеть? Пойдемте! – она взяла меня за руку.
Мы вышли на улицу, завернули за угол дома, и Анна Никифоровна постучала в крайнее окно. Отодвинулась занавеска, к стеклу прижалось лицо Иры Феликсовны, и тотчас же в окне появились еще две головы. Анна Никифоровна что-то говорила мне, но я не слышала. Сжав зубы, я смотрела на неузнаваемо изменившиеся лица – худые, прозрачные. У Иры Феликсовны было лицо, как на старинной иконе, – тонкое, бледное, с глубоко запавшими глазами. Настя обняла Таню и, улыбаясь, что-то говорила, а Таня смотрела в окно, тревожно искала глазами и словно никого не видела. Она была острижена наголо, вокруг шеи белела повязка.
У меня было такое чувство, точно на вокзале, когда стоишь перед вагоном поезда, а он вот-вот тронется. Хочешь сказать какое-то последнее, самое важное, слово, а тебя не слышат. А там, по ту сторону вагонного окна, тоже что-то говорят – ты видишь, как шевелятся губы, – и ничего не слышишь.
Если бы увидеть сейчас Сережу, если бы исхудалый, бледный, но живой Сережа глянул на меня из окна…
Видимо, в палату зашел доктор или сестра, потому что Ира Феликсовна махнула рукой и торопливо задернула занавеску. Я обернулась. У Анны Никифоровны дрожали губы.
– Вот и повидали. Все же легче, правда? – сказала она.
* * *
Для меня приезд Владимира Михайловича был истинной благодатью. С ним я могла говорить о той поре моей жизни, которой никто не знал в Заозерске. Поняв это и без моих вопросов, он говорил обо всем, что было мне так дорого. Тетя Варя часто приезжала в Березовую Поляну, на могилу Костика. За могилой смотрели ребята. Не знаю почему, мне это было важно – что на могиле всегда цветы, а рядом с кленом и рябиной посадили еще и дубок. Мне всегда казалось: человек жив, пока о нем помнят. Вот когда все забывают, когда нет никого, кто бы помнил, – тогда пришла настоящая смерть.
…Побывав на могиле, тетя Варя заходила к Владимиру Михайловичу. Они обменивались вестями о нас. Разговаривали. А потом подружились. Когда Владимиру Михайловичу пришлось покинуть Березовую Поляну (немцы были уже совсем близко), он поселился неподалеку от тети Вари. Они помогали друг другу в блокаду.
– Варвара Ивановна не изменилась. Она осталась такой же, как прежде, а это не о каждом можно сказать. Иногда люди меняются неузнаваемо. Долгие-долгие годы я не знал о своих старых знакомых и десятой доли того, что узнал и увидел за одну блокадную зиму… Знаете, кто сильно помогал нам? Саня Жуков. Он в армии, и, пока стоял под Ленинградом, пользовался всяким случаем, чтоб переслать нам хлеба, консервов Иногда – очень редко – приезжал сам. Его жена…
– Жена?!
– Что ж такого? Вот вы говорите – Репин женился. А они ровесники. Саня, пожалуй, даже постарше. Его жена удивительный человек – умный, талантливый. Очень хорошая женщина. Она с ребенком эвакуировалась еще прошлой осенью – уехала и больше не писала.
– Может быть… как Муся?
– О нет! Это – совсем другое! Нет, нет!
Я подумала: кто может знать? Но так горячо прозвучало его «нет», что я не осмелилась сказать это вслух.
Каждый поворачивался к этому человеку лучшей своей стороной. Ему верили с первой минуты.
– Вот бы Толин дядя был, как вы, – сказала Зося. – Вы полюбили бы меня?
– А я уже полюбил, – просто ответил Владимир Михайлович.
Ленинградские ребята не отходили от него ни на шаг. И мои сразу привыкли к нему. Он вошел в наш дом так, словно век жил с нами. С ним было просто, с ним было легко – и взрослым и детям. Он любил людей и верил им, и они отвечали ему тем же. Каждый чувствовал: ему близка и понятна моя жизнь, моя боль, моя радость. Он откликнется на мою тревогу, на мое сомнение. У него такой запас любви и покоя, что хватит на всех.
В тридцать третьем году, когда мы приехали с Семеном в Ленинград, у Владимира Михайловича уже не было своей семьи. Его дети и жена умерли. Я иногда думала – что делает его таким сильным? Где источник постоянного света, которым он полон? Помню, незадолго перед тем, как нам уехать из Ленинграда, он сказал: судьба уничтожила все, что я любил, но уничтожила в жизни, а не во мне. Свет, горящий внутри, – свет неугасимый.
Тогда эти слова не дошли до меня. Я их не поняла, я просто запомнила. Но сейчас я увидела, что он говорил правду. Так оно и было. Он не дал погибнуть своему счастью, сумел сохранить его в себе. Пронес через всю жизнь.
Передо мной одинокий старик, одинокий так, как только может быть одинок человек, потерявший все, что ему было дорого. Человек, все достояние которого – в нескольких письмах и фотографиях. И все-таки передо мной счастливый человек. Счастливый, богатый и добрый.
* * *
– Зачем вы пришли, Петр Алексеевич? Вам еще надо лежать!
Он ответил желчно:
– Допускаю, что вам не слишком приятно меня видеть. Допускаю. Но я еще на работе. И поскольку я знаю, что Ирина Феликсовна больна…
– Но ведь приехал Владимир Михайлович!
– …и поскольку я знаю, что Ирина Феликсовна больна, а Владимир Михайлович не может так быстро войти в курс дела, я позволил себе…
Он еще долго меня отчитывал – я уж и не рада была, что начала.
Когда-то, вскоре после нашего приезда в Заозерск, Петр Алексеевич сказал:
– Плохие у вас помощники, Галина Константиновна. Я больной старик. Ступка пьет, стало быть, может подвести в самую трудную минуту. Ирина Феликсовна… конечно, она очень мила… но она ведь нечто среднее между цветком и птичкой, от нее толку будет не много.
Когда Ирина Феликсовна заболела, все увидели, как много лежало на ее плечах. Она работала весело, ни на кого не перекладывала своих забот. Поэтому никто не задумывался над тем, что она делает, много ли времени и сил нам отдает. Но сейчас мы видели – без нее не обойтись. Владимира Михайловича слишком поглощали его подопечные, Ступка был по горло занят в мастерских. Правда, Женя был толковым председателем совета и дежурные работали как часы, а все же я, уходя в город или в Ожгиху, всегда тревожилась. Нет, видно, душа не может сразу быть в нескольких местах, она всегда сосредоточивает свои силы на чем-нибудь одном. Даже когда я бывала с ребятами на Незаметной, все понимали: я не с ними, я там, в больнице. Конечно, хорошо, если Петр Алексеевич начнет работать. Но он так слаб, так задыхается при ходьбе, кашель с таким хрипом вырывается из его груди… Однако спорить я не стала, в этом не было никакого смысла… И Петр Алексеевич начал работать. Работал он не так, как прежде. Прежде ребята слушались его, и только. Но если надо было спросить или поделиться новостью, искали меня, Иру Феликсовну, бежали в мастерскую к Ступке, на кухню к Лючии Ринальдовне. А сейчас… Сейчас Наташа ворвалась в дом с криком:
– Письмо! Петр Алексеевич, слышите? Мне от Короля письмо!
В другой раз Миша сказал ему:
– Петр Алексеевич, сегодня мы в школе подчеркивали прилагательные. Я подчеркнул «угрюмый» и вспомнил про вас.
Петр Алексеевич поклонился и сказал: