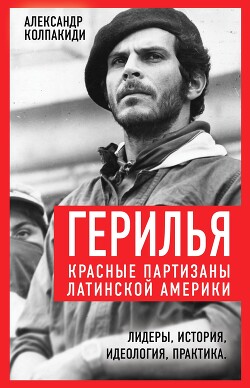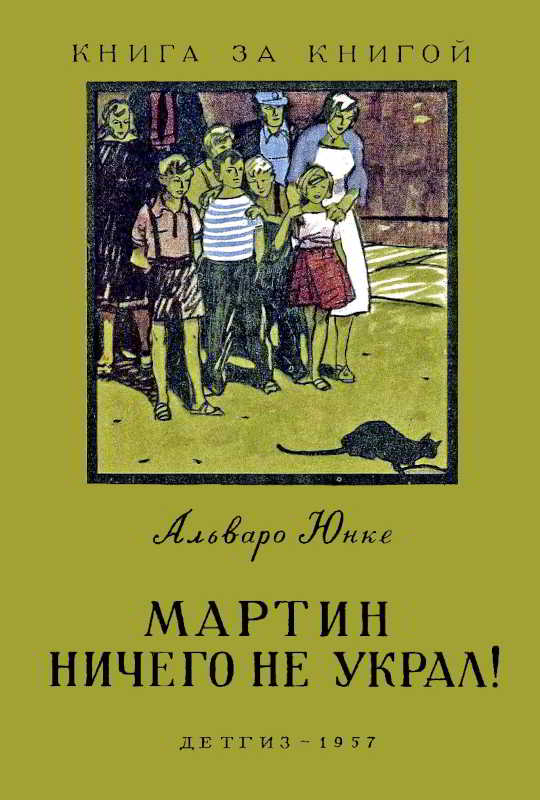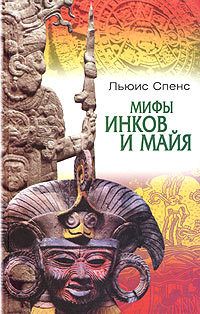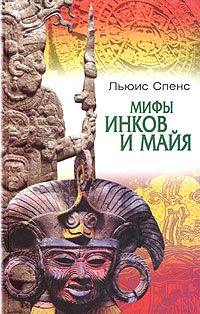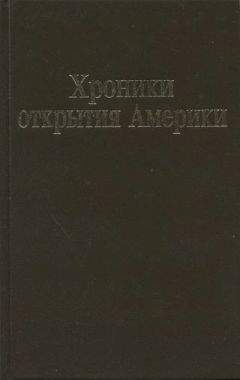ни о чем не думая, будто сидел дома, а женщина за стойкой была его мать.
Он покончил с едой, когда уже стемнело и в кафе зажгли свет.
Мальчик посидел еще немного, не зная, что сказать на прощание хозяйке.
Наконец он встал и сказал просто:
— Большое спасибо, сеньора. До свиданья.
— До свиданья, сынок, — ответила она ему.
Он вышел. Ветер, дующий с моря, освежил разгоряченное от слез лицо. Он пошел куда глаза глядят и вышел к пристани. Летняя ночь была прекрасна, на небе сверкали огромные звезды.
Он думал о доброй женщине, о том, как он отблагодарит ее, когда появятся деньги. Лицо его остывало, мысли рассеялись. Где-то глубоко в памяти на всю жизнь останется у него воспоминание о случившемся. Он шел уверенным шагом, напевая вполголоса, а когда вышел к морю, то почувствовал, что силы возвращаются к нему.
Огни кораблей и причала золотисто-красным потоком отражались в дрожащей воде. Он лег на спину и долго лежал, глядя в небо. Ему не хотелось ни думать, ни петь, ни говорить. Он снова жил, и этого было достаточно. Так он и заснул, повернувшись лицом к морю.
Хосе де ла Куадра (Эквадор)
ГУАСИНТОН
(История монтувийского каймана)
Я встречал охотников на кайманов в самых разных, подчас неожиданных местах. Встречи эти были иной раз так необычны, что объяснить их можно было бы только кочевым образом жизни этих людей и их привычкой бродить далеко от рек или болот, — вероятно, в бессознательном стремлении забыть о тех страшных опасностях, с которыми сопряжено их ремесло. Как-то я встретил их, когда ехал верхом от Гаракойкоа к Ягуачи, в местах, где никто не видел кайманов. Охотников было двое. Один, уже пожилой, сухощавый мужчина, сильно хромал — бог знает, в какой из отдаленных заводей осталась в пасти каймана его правая нога, отхваченная как раз по лодыжку.
Его хромота вызывала жалость — он опирался на грубо сделанный, слишком длинный для него костыль, от которого его правое плечо приподнималось, изгибая туловище влево. Передвигался он поэтому смешно наклонившись набок, и хотя он возбуждал сострадание, при виде его невозможно было удержаться от улыбки. Мы обменялись с ним обычными в таких случаях словами приветствия, и, наверное, я сразу же забыл бы о нем, если бы мой носильщик не сказал мне, что этот охотник все еще продолжает заниматься своим опасным ремеслом и даже пользуется среди сотоварищей репутацией искуснейшего гарпунёра.
Другой охотник на кайманов был гораздо моложе и мог сойти за сына или племянника своего старшего товарища. В их облике было что-то неуловимо общее.
Парень был силен, широкоплеч и вообще очень крепкого сложения. Однако на лице его уже явственно обозначились признаки начинающейся малярии и анкилостомоза [14]. Зато встречи с грозными хищниками не оставили никаких следов. Не видно было ни единой царапины. По-видимому, до сих пор кайманы обходились с ним милостиво.
Когда охотники прошли мимо, я спросил своего спутника:
— Как зовут старика?
— Селестино Росадо, — ответил он. — Неужели вы ничего о нем не слыхали?
— Нет. А откуда он?
— Ну… Селестино Росадо… Я думаю, из тех мест… с берегов Бальзара или Конго.
И носильщик принялся рассказывать мне об охотнике то немногое, что знал.
И в заключение добавил:
— Ведь он один из тех смельчаков, которые убили Гуасинтона.
— Гуасинтон? Кто это такой?
— Гуасинтон… Ну, это Гуасинтон… Вот такой кайман…
Мой собеседник взмахнул руками, показывая, какой длины он мог быть:
— Огромный!
К сожалению, в этот самый момент на горизонте мелькнул крест церкви Ягуачи, и разговор наш принял другой оборот.
Парень показал пальцем на блестевший в лучах солнца крест:
— Ну вот, кажется, и добрались.
И, сам не знаю как, мы перешли к рассуждениям на другие темы — почему, например, урожай риса в этом году был так хорош, а цены на него все равно остались высокими, такими же, как и в Гуаякиле.
— Все это из-за фабрик! Отчего же еще?
«Фабриками» он называл механические мельницы.
Вот так я впервые в жизни услышал о Гуасинтоне.
Тогда я еще не знал, каким ты был, Гуасинтон — откормившийся в эквадорских водах гигантский кайман.
Я даже и не подозревал, что это восьмиметровое чудище, жившее некогда в здешних водах, станет навязчиво являться в моих снах, когда я буду отдыхать на корме моей лодки, плывя по порожистым монтувийским рекам.
Не знал я и о том, что у тебя была искалечена твоя могучая правая лапа. О, Гуасинтон, легенда здешних мест!
Только позже мне стало известно, что, как и многие знаменитые пираты, терявшие руку под топором защитников судна, которое они брали на абордаж, Гуасинтон лишился своей правой лапы тоже в бою. Но я не знал, в какой героической схватке это произошло, не знал, что его отрубленная лапа стала для охотников своего рода геральдическим знаком боевых побед.
Как-то, когда мы с доном Макарио Арриагой сидели в кабачке Викториано Акобы за кружкой пива, он рассказал мне об этом:
— Мы увидели, как Гуасинтон еще с одним кайманом плывет вниз по течению, взгромоздившись на обломок плота… И колесный пароход (кажется, это был «Сангай», да, именно «Сангай») натолкнулся на этот плот. Гуасинтон разъярился и ринулся на абордаж. Ну, ясное дело, одно из колес захватило его и оторвало у него правую лапу — непонятно, как ему вообще не переломило хребет. Весь в крови Гуасинтон перевернулся и опять пошел в атаку, но рулевой ловко повернул, и второго нападения удалось избежать. Свидетели этого зрелища говорят, что впечатление было очень сильное. Ни у кого тогда рука не поднялась выстрелить в каймана. А ведь его можно было прикончить без всякого труда — он был всего в двух метрах от парохода, прямо на виду у охотников. Но храбрость Гуасинтона всех парализовала, а вы, наверное, согласитесь со мной, что ничто нас так не восхищает, как храбрость. Поэтому Гуасинтону дали уйти, и он опять влез на плот.
Тут к нам подошли двое, мужчин, которых я раньше не видел. Дон Макарио представил мне их:
— Херонимо Пита… Себастьян Висуэте… Заметьте, сеньор, эти двое тоже принимали участие в охоте на Гуасинтона. Да, когда решено было с ним покончить. С нами были Селестино Росадо, Мануэлой Торрес. В общем, человек четырнадцать. И нам еще, можно сказать, повезло — всего один человек погиб и один был ранен. Верно говорю — очень повезло.