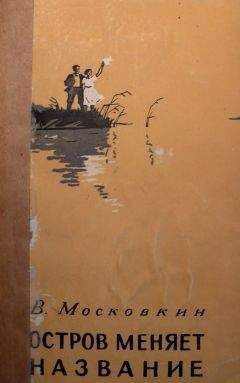— Ну, спишь и видишь сестренку в детском доме? — спросил он после чаю, когда мы уже сидели с Толькой у этажерки с книгами.
— Хотелось бы, — осторожно сказал я.
— Хоть с завтрашнего дня веди.
— Устроили! — вырвалось у меня. — Спасибо, дядя Леша!
— Ну вот уж и спасибо. Пустяк, яйца выеденного не стоит устройство это. Хоть и не по моей линии, но раз так, почему не сделать. Значит, в тот самый детский дом, который в поселке. Особняк у шоссе знаешь?
— Знаю. Как не знать.
— Вот так… Ты думал, толку не добиться. Что же ты в доме соседям про меня сказал? Бюрократ, мол, не хочет с людьми разговаривать, переработать лишний час боится. Я знаю, ты не хотел меня обидеть, так ведь? А там разговоры пошли нехорошие. Есть у нас еще люди, зависть что ли их грызет или еще что, стараются оклеветать человека. Про Филосопова я не говорю, с самой войны не ладим с ним. Другие вмешались… Вот как бывает, когда не подумавши скажешь. В фабком жаловался?
— И не думал. Приходили, так я сказал…
— Приходили? Кто это приходил?
— Тетка Марья Голубина и Тося Пуговкина.
— Вот как! Понятно. Я думаю, откуда пошло… Ты сиди, сиди!
— Спасибо, насиделся… Спасибо! Пойду я, дядя Леша. За Таню спасибо.
— Что торопишься? Давно у нас не был.
— Зайду как-нибудь. До свидания!
— Опять обиделся! Эх, ты! Не сверкай глазами, злость-то побереги на что-нибудь более нужное.
— Придете к нам еще? — спросила Феня, провожая меня до двери.
Я посмотрел на нее. Отвечать ничего не хотелось.
У дяди Вани Филосопова в комнате сплошной развал. Он надумал выставлять зимние рамы, хотя по ночам еще бывает холодно.
На полу валяется вата, обрывки, бумаги и клюква, которую он насыпал между рамами, для красоты. На подоконнике стоит ведро с водой, около него дядя Ваня, раздумывает о чем-то.
— Кстати, — говорит он мне вместо приветствия. — Бери тряпку и лезь мыть стекла. У меня что-то голова кружится. Старею, брат.
— Ну уж и стареете, — шутливо замечаю я. — Вы еще совсем молодой.
— Был когда-то! Был! — отвечает дядя Ваня.
Мне всегда нравится разговаривать с ним. Охотно беру тряпку и лезу на подоконник. Дядя Ваня держит меня за штаны, боится, чтобы не упал.
— Замерзнете. В доме никто не выставлял рамы.
— А мне другие не указ. Я живу своей меркой. Замерзать начну — поверх одеяла пальтишко наброшу. Зато крепче спать буду.
Через полчаса стекла — прозрачные, как слеза, пол подметен. Дядя Ваня довольно оглядывается кругом:
— Как живешь, друг? — спрашивает он потом.
— Да ничего, помаленьку. На работу хочу устраиваться. Говорят — лет мало.
— Что правда, то правда. Годами ты не вышел. Попытайся-ка в ремесленное училище устроиться. Это будет дело. Там дурь из головы вылетит быстро. А то сейчас, где грязь да мерзость, туда и нос суешь. Хорошее искать надо, чучело гороховое! Разве мало в жизни хорошего!
Согласен: хорошего много. Но что поделаешь, если до сих пор плохое встречалось чаще. Не бегать же от него!
— Хотя, может, и к лучшему, — примирительно сказал дядя Ваня. — Не в теплице живешь. Быстрей взрослеть будешь.
Он нацепил на нос очки с одним стеклом, взял с этажерки карандаш и листок бумаги, сказал:
— Писульку я тебе маленькую дам. Придешь в райком комсомола и спросишь Татьяну Сычеву, она все сделает. — Подумал немножко и добавил: — Выученица моя, была бы славная ткачиха… Время летит — и не замечаешь. Давно ли тебя ползунком знал, а вот уж и на работу. Ладно, Семен, не горюй. Рабочий человек, он крепко по земле ходит.
Хорошо, если бы на улице все время была весна. Весной и воздух какой-то особенный, густой. Дыши целый день таким воздухом, и, говорят, пользы будет ровно столько, как будто тридцать три яйца съешь. А о весеннем солнышке и говорить нечего. Наведешь лупу на сухое дерево — тотчас задымится, любая бумажка моментально вспыхивает огнем. Посиди на солнце, не двигаясь, минут двадцать — и, считай, наутро нос начнет шелушиться.
Но всего, конечно, приятнее, что после уроков не надо идти в раздевалку получать пальто. Звонок, схватил книжки — и на улицу.
Пруд около нашей школы растаял. Ребята притащили откуда-то два толстых бревна и сделали из них приличный плот. Теперь на берегу всегда галдеж.
Даже кое-кто из девочек прокатился на плоту. Визжат от страха, а катаются.
Несколько раз выходил директор из школы и требовал прекратить «безобразие». Его внимательно слушали, но только он уходил — продолжали заниматься своим делом. Заводилам придется расписываться в «коленкоре».
Я хоть и спешил — надумал прямо из школы зайти в райком комсомола, — но тоже не удержался, прокатился через пруд.
Витька Голубин перевез меня на другой берег и, ссадив, помахал рукой.
— Счастливого пути, маэстро!
Недавно он где-то вычитал это словечко и теперь лепит к месту и не к месту.
До райкома можно ехать на трамвае, но я иду пешком. Мне просто нравится смотреть по сторонам, ни о чем не думая.
И все же подмывает: как-то там встретят, устроят ли?
Райком комсомола помещался в уютном деревянном доме, глядевшем на улицу тремя окнами с резными наличниками. У входа висела красивая, блестящая вывеска; ее, наверно, повесили совсем недавно.
В комнате, куда я вошел, было тесно. Почти вплотную друг к другу стояли три стола. За одним девушка в голубом свитере печатала на машинке. Кроме нее, у окна сидели парни в замасленных тужурках. Каждому из них было не больше двадцати лет.
До моего прихода они разговаривали о чем-то веселом. Это было видно по их оживленным лицам.
— Вам придется немного подождать: секретаря еще нет, — сказала мне девушка в свитере.
Я кивнул и остался стоять у дверей. Остроносый парень с пышными, густыми волосами насмешливо взглянул на меня и сказал:
— Садись. Что, как бедный родственник, топчешься у порога?
— Ничего, я порасту.
— Ну расти, — согласился он. — Длинней коломенской версты не будешь. Откуда ты?
— С поселка. Коротков.
— Коротков? Вера Короткова сестра твоя?
— Да.
После этого он стал рассматривать меня с интересом. И уже совсем другим тоном произнес:
— Красивая у тебя сестра. Замуж она еще не вышла?
— Собирается.
Девушка в свитере, не поворачивая головы, заметила:
— У Осипова все девчата красивые.
В ее голосе чувствовалось легкое раздражение.
— Зиночка, — шутливо укорил ее Осипов. — О тебе-то я этого не говорил!
— Спасибо, — с обидой произнесла Зина и ожесточенно застучала на машинке.
Парни — они оказались комсомольцами с фабрики — тоже дожидались секретаря. Из их разговора я понял, что они надумали организовать туристический лагерь, где будет отдыхать фабричная молодежь, но им еще надо купить что-то, а без секретаря они сделать этого не смогут.
Уже выбрано место на берегу реки, за городом; есть договоренность с администрацией фабрики, чтобы отпуск комсомольцы могли получить в летние месяцы.
Они мечтательно говорили, какой это будет прекрасный лагерь.
— Ребята, вы мне мешаете, — останавливала их Зина.
Они виновато замолкали.
— Больше не будем, Зиночка. Молчим.
Но молчать они не могли. Видимо, уж слишком были возбуждены. Сначала начинали шептаться, а потом опять переходили на полный голос.
Зина перестала стучать на машинке и с укором повернулась к ним.
— Не сердись, Зиночка, — примирительно сказал пышноволосый Осипов. — Я же тебя приглашаю в гости на весь отпуск.
— Больно многих приглашаешь, — подобрев, заметила Зина.
— Так я от душевной щедрости, Зиночка! От чистого сердца. Вон и хлопца возьмем, — кивнул он в мою сторону. — Приедешь, хлопец, к нам в лагерь? Что молчишь? По глазам вижу: хочешь.
Он прав. Я хотел бы быть с этими веселыми комсомольцами. Их разговор, шутки и веселость были для меня чем-то новым. Зина опять остановила работу и сердито посмотрела на ребят.
— Хорошо, хорошо. Уходим, — виновато сказал Осипов. — Подождем на улице. Пошли, хлопчик!
Со всего размаху я толкнул дверь и вдруг услышал легкий вскрик.
В коридоре стояла девушка, трясла рукой и дула на пальцы.
— Простите, пожалуйста, — смущенно стал я оправдываться. — Совсем ненарочно.
— То-то и оно, что ненарочно, — морщась от боли, ответила она. — А то бы задала тебе трепку. Ну-ка, дергай за палец.
Я осторожно взял ее тонкий палец и дернул.
— Ой! — тихо вскрикнула девушка.
Она достала из сумочки маленький флакон духов, побрызгала все на тот же ушибленный палец и стала растирать его.
— Говорят, помогает, — пояснила она, не замечая веселой ухмылки на лицах ребят; наблюдая эту сцену, они не проронили ни слова. — Что это ты носишься как угорелый? — спросила она меня.