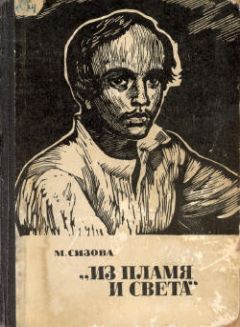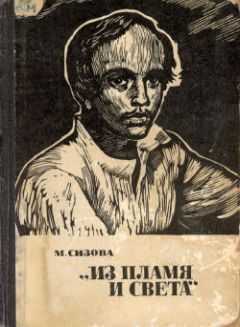— Мари, я умоляю тебя, — сказала Варенька, дважды перечитав все стихотворение, — дай мне это переписать!
— Мишенька, да ты сядь, мой друг, и посиди тихонько. Ходишь, как маятник, перед глазами — взад-вперед, а я и так мыслей никак не соберу.
— Хорошо, бабушка, я сяду.
— Послушаем-ка, что Святослав Афанасьевич скажет.
Бабушка выпрямилась, как всегда в решительную минуту, и сложила руки на коленях.
Раевский ответил не сразу.
— Я все же полагаю, что Университет — прямая дорога для Мишеля.
— Но эта дорога, — отозвался Лермонтов, продолжая смотреть в окно, — отнимет у меня большой кусок жизни. А ежели я выберу военную службу, жизнь для меня откроется скорее. Значит, мне не к чему поступать в Университет. Это ненужная трата времени.
— А вот послушаем Алексея Аркадьевича, — сказала бабушка. — Он моего брата сын, и хоть и молод еще и зовешь ты его кузеном, а все же он твой двоюродный дядя. Вот и слушай его. Он человек умный. Скажи, мой друг, что нам с Мишенькой делать?
Племянник Елизаветы Алексеевны Алексей Столыпин, сын сенатора, которого уважали участники декабрьского восстания, повернул к ней свою безукоризненно красивую голову.
— По-моему, Мишель это должен сам решать. А ежели вы спрашиваете меня, то, право, не знаю, может ли человек придумать для своего ближнего что-нибудь лучше того, что он придумал для самого себя? А для себя я выбрал военное поприще и без особых колебаний поступаю в Юнкерскую школу подпрапорщиков.
— Ах, мой друг, — ответила бабушка, — для тебя это прекрасно, но Мишенька и пишет, и рисует, и даже на скрипке играет — какой же он военный? Он весь штатский, и все тут.
— Бабушка, но вы же сами спрашивали совета у Алексея. А он идет в Юнкерскую школу. И хоть я и штатский, как вы сказали, но, ежели Россия будет воевать, я все равно буду участвовать в сражениях.
— Ох, Мишенька, — всплеснула бабушка руками, — не дай бог дожить мне до этого дня!..
— А по-моему, бабушка, умереть от пули легче, чем от долгой болезни, — весело закончил он. — И, право, я завидую моему кузену. Его жизненный путь ему ясен, и сомнений у него нет. А мне ясно только одно — что жизнь человеческая весьма короткая вещь, и терять время — может быть, год! — на экзамены я не буду. Но, с другой стороны, я ведь не Пушкин, чтобы иметь право быть только поэтом! И если не в Университет, ну что же? Пойду в Юнкерскую школу учиться. Я кончил, бабушка.
* * *
Он долго смотрел в этот вечер из окна своей комнаты, выходившего на канал. Его решение опять вставало в сознании и начинало казаться ему самому безумием. Как? Оставить, бросить поэзию, которой он отдал столько времени и упорства, науки, которой занимался еще в пансионе университетском с увлечением, свои книги, библиотеку, собранную с такой любовью? Бросить все и готовить себя к званию военного? Что сказал бы его учитель Мерзляков, теперь уже покойный, если бы знал, что он оставляет литературу?! Что скажут и другие его московские учителя?
Но пусть они укажут ему, прежде чем судить, что же можно писать и печатать при нынешней цензуре и что вообще можно делать, когда лучшие люди изгнаны, исключены из жизни и бессильны?! И кому можно верить, если даже той, которой он отдавал всю свою любовь, верить было невозможно?
А теперь еще новый Университет ставит ему препятствия, не желая поверить в его знания, требуя бессмысленной жертвы — целого года жизни!..
Так пусть все летит как в пропасть! И пусть юнкера, и пусть муштровка, притупляющая мысль и волю! Зато через два года этой дикой, несвойственной ему, непривычной жизни его ждет свобода, и офицерское звание, и еще… А кто его знает, что еще! Не все ли равно? Пусть все летит как в пропасть!
Дул сильный северо-западный ветер, порывами налетая на деревья. Неслись низкие облака, в ночной темноте казавшиеся белыми, и темная вода канала поднялась почти вровень с гранитом. В ней дрожали, переливаясь, отраженные блики лунного света. Лермонтов стоял, глядя на эти светящиеся отражения, и его случайные мысли начали приходить в гармонию, слагаясь в звучащую форму:
Для чего я не родился
Этой синею волной?
Как бы шумно я катился
Под серебряной луной…
. . . . . . . . . .
Не искал бы я забвенья
В дальнем северном краю;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою!
И вдруг в тишину вечера ударили глухо пушки. «Наводнение!» — встрепенулся Лермонтов и, наскоро одевшись, выбежал на набережную.
Синело, темнело, точно набухало влагой небо над Петербургом. Месяц куда-то исчез. Горизонт закрыли полчища туч, бегущих со стороны моря приступом на город.
Нева бурлила и поднималась в своих гранитных обрамлениях.
Он долго бродил вдоль реки по набережной, вдыхая всегда милый его сердцу воздух близкой бури и радуясь волнующему ритму тревоги в небе и на земле.
Когда он переходил через площадь, знакомый голос окликнул его:
— Мишель!
Столыпин на легких дрожках возвращался с пирушки домой.
— Садись, подвезу!
— Нет, лучше ты выходи и пройдемся.
Столыпин покорно вылез из своего экипажа и зашагал рядом.
— Ну как, решился? — спросил он, посматривая с высоты своего роста на кузена.
— Кажется, решился, — вздохнул Лермонтов.
— А почему ты говоришь об этом со вздохом?
— Жалею, Алексей, о многом. И пансион вспоминаю и Университет, а главное — товарищей многих.
— Товарищи будут и среди юнкеров!
— Но это уже не те. Я боюсь, Алеша, что в них не найду ни благородного огня, ни того искания правды, которым жили мои прежние университетские друзья.
Лермонтов остановился около гранитной ограды и твердо положил на нее свою небольшую, тонкую руку.
— Это будет не то, — повторил он в раздумье. — Я знаю: жизнь моя ломается сейчас. Но ничего не поделаешь — судьба, Алеша! Значит, придется мне теперь жить двойной жизнью.
— Что ты хочешь сказать? — удивленно поднял Столыпин свои темные, точно нарисованные брови.
— Не знаю, как тебе объяснить это чувство..
Лермонтов заговорил медленно и негромко, словно прислушиваясь к чему-то.
— Но я чувствую это очень давно…
— Мишель, не будь таким таинственным!
— Я хочу сказать, что чувствую в себе двух людей одновременно. Признаюсь тебе, что могу иногда болтать вздор в то время, как думаю над загадками и целями человеческого существования. Могу носиться по бальному паркету с любой из дам и волочиться за ней в ту минуту, когда сердце тоскует только об одной. Да, Монго! Один из этих двух людей может делать глупости, а душа другого ищет совершенства — ты понимаешь, Алеша, совершенства! — во всем: в жизни, в людях, в самом себе и… плачет оттого, что его нет.
— Ты всегда был чрезмерно чувствителен, mon cher, — ответил Столыпин, глядя на темную ширь реки.
В дрожащем от ветра свете уличного фонаря отчетливо вырисовывались безукоризненные черты Столыпина с их неизменно ясным и довольным выражением и не отличавшееся правильностью, но полное мысли и живого чувства смугловатое лицо Лермонтова.
— Но мне кажется, я тебя понял, — продолжал Столыпин. — Один Мишель будет поэтом, а другой поступит вместе со мной в Юнкерское училище.
— Ты прав, — улыбнулся Лермонтов.
Новая квартира на набережной Мойки — близ Синего моста, где помещалось Юнкерское училище, — была просторна и пустынна. Бабушка в одинокие дни долгой недели, казавшейся ей бесконечной, вспоминала часто уютный тархановский дом, согретый и насиженный, как гнездо, и заботливо следила за тем, чтобы в комнатах Мишеньки и без него было протоплено, а то, не дай бог, отсыреют стены в петербургском-то климате.
С появлением внука она оживала, как и пустынные комнаты дома. В одной из них он спал, в другой принимал друзей и занимался, третья была у них столовой, а в ее комнату, в четвертую, он прибегал по старой привычке вечерами поболтать. В гостиной стоял его рояль да лежала на отдельном столике давно умолкшая скрипка.
С его появлением все приобретало смысл и жизнь. И даже перед закрытой дверью его комнаты в те редкие часы, когда садился он за свой письменный стол, она чувствовала себя счастливой. Все равно он здесь, дома, и иной раз даже можно открыть его дверь, будто забыв, что открывать ее нельзя, и, войдя, спросить:
— Не велеть ли, Мишенька, кофею тебе подать? Или хочешь ранний обед?
И увидеть, как обернется к ней черноволосая, склонившаяся над бумагой голова, как темные глаза посмотрят на нее невидящим взглядом, полным какой-то непонятной ей мысли, услышать, как, не задумываясь над ее вопросом, он ответит безучастным согласием на все. Зато потом, за обедом, можно кормить его всем, что он любит, под веселые шутки его над ней же, бабушкой, и подсовывать и подкладывать до тех пор, пока он не скажет со вздохом: