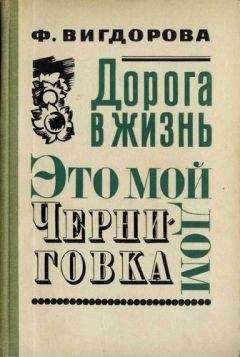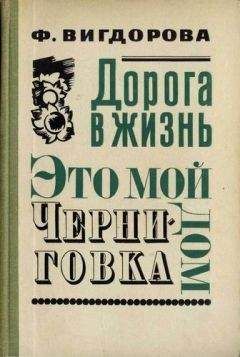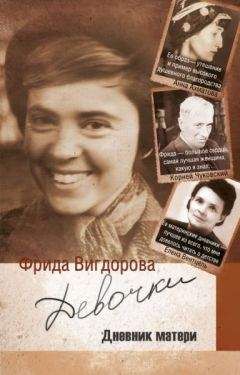Зикунов… Он ходит такой же тихий, замкнутый, как всегда, но только после случая с ленинградцами он больше не кажется мне пугливым и жалеть его трудно. Иногда мне даже кажется, что я сама его боюсь. Да, в самом деле, в этом мальчишке есть что-то страшноватое. Вот – обирал голодных ребят. Разве это поймешь? Да что ж тут не понимать. Рассказал же мне Велехов, за что Зикунова поместили в режимный дом. Заманивал малышей в темные углы, раздевал и разувал их. Чему же я удивляюсь? Думать надо было, что делать, а не удивляться, не разводить руками. И все-таки я зачем-то спрашиваю Велехова:
– А почему Зикунов вдруг пошел в милицию?
– Вы что ж думаете, он забыл, как его хлебом да сахаром оделяли за вещички за ленинградские? Как он ходил туда-сюда на глазах у всех? Он по-ом-нит! Если б мог, он бы лучше на Андрея Николаевича донес. Да не вышло. И потом, он ведь пакостник. Знаете, есть такие – мухам головы отрывают. Я с ним уже давно дела не имею, он на обе стороны работает. Прошлый год вам на меня капал, теперь Криводубову на вас донес. Мне еще вон когда показать бы ему, где раки зимуют, когда он вам про буханки рассказал, да неохота было мараться. Он такой: ему это первое удовольствие – напакостить.
– А ты? Вот то, что ты делаешь сейчас, подставляешь вместо себя Лепко, – это не пакость?
Он не оскорбился, сказал спокойно:
– Если я и сунусь, это Петьку не спасет. Все равно соучастник. Все равно засудят. Ну, подумайте, зачем мне соваться? Если против меня ничего нет? А Лепко – опять вам скажу – дурак. Зикунов-то про него слова не сказал, а он сам в петлю полез.
– Послушай, – сказала я. – Вот ты часто говоришь мне про Петра Алексеевича. А известно тебе, как он попал в Заозерск?
– Чего ж тут неизвестного. Всему городу известно.
– Так вот что я тебе еще расскажу. Этого ты, наверно, я слыхал. Вырастил он племянника. Сироту. А когда арестовал Петра Алексеевича, племянник от него отступился. Хоть и знал, что Петр Алексеевич ни в чем не виноват.
– Вы меня с этим племянником не равняйте. Вы меня еще не знаете. Я добро помню.
– И он помнил. А рассуждал так: ну, стану писать, помогать, – его не выручу, а себя, пожалуй, погублю. Замечаешь? В точности как ты.
Велехов сводит брови к переносице. Отвечает не сразу:
– Нет, не похоже. Петька мне не родня, не сват, не брат. Что он для меня такого сделал?
– Любил он тебя. И верил тебе.
– Любил?! – Велехов фыркнул. – Из любви, между прочим…
– Шубы не сошьешь? Да? Нет, вижу я, грош тебе цена. Ничего ты не понимаешь.
– Не понимаю? А знаете вы, как у меня глаза не стало? Проиграли мой глаз. В малине одной… Помните, меня Лизавета картами попрекнула? Любили меня тогда? Жалели? Проиграли глаз, и всё. Привет!
Сердце у меня остановилось.
– Ладно, не глядите так. Кривой и кривой. Я привык. А про Лепко опять скажу: меня к этому делу не прицепишь.
* * *
Против него и впрямь ничего не было. Ничего, кроме твердой уверенности, что виноват он, он один и никто другой. Да он это и не очень скрывал, когда оставался со мной наедине. Но, разговаривая с Криводубовым, он был спокоен, сух, непроницаем и никак не мог понять, чего от него хотят. Он знать ничего не знает об этих часах. Лепко не мог справиться с таким делом один? Ну, вот и спрашивайте у Лепко, пускай он сам вам и скажет, с кем был на паях. Может, там и есть какая-нибудь малина, а Лепко у них на подхвате. Но он, Велехов, ничего про это не знает.
Я ходила советоваться с Корыгиной. Я знаю, она нам друг, она хочет помочь, хочет сделать так, чтобы Лепко остался дома, она всеми силами старается найти зацепку, но зацепки нет. Криводубов узнаёт от Лепко очень немногое. Сначала он хранил часы просто в подушке. Но когда Андрей спросил у Велехова, чьих рук дело – грабеж в часовой мастерской, он, Петя, положил сверток в печку. «Велехов про это ничего не знал», – твердит он снова и снова.
– Ты понимаешь, как подвел Галину Константиновну? – спросил Криводубов.
– Нет! – крикнул Лепко. – На Галину Константиновну никто не подумает, вы сами сказали, никто не подумает. А уж если что, я бы сразу пошел и объявился. Галина Константиновна! Вы сами знаете, я бы вас в обиду не дал!
…Это было для нас страшное время. На улицах блистал июль, стояли солнечные, яркие дни. А у нас в доме было так темно и так горько, как не было даже в первую пору, когда мы еще чувствовали себя в Заозерске чужими. Смятение. Растерянность. Горечь. Мы теряли Петю Лепко, мы были бессильны ему помочь. И никто не мог примириться с тем, что настоящий виновник выйдет сухим из воды.
– И ты не пойдешь, не признаешься? – кричал Сараджев.
– Отстань, – лениво ответил Велехов, – не в чем мне признаваться.
– А я про тебя думал, что ты…
– Плевать я хотел на то, что ты думал.
…Скольких я провожала на своем веку? Вырастали, уходили из дому – и я провожала. В другой город. На учение. На работу. В неизвестность. На фронт. Но в тюрьму – в тюрьму я еще никого не провожала и не думала, что придется.
Я стою перед вагоном, на окнах его густая решетка. К стеклу прильнул Лепко и не спускает с меня глаз. Он бледен до голубизны, такого цвета бывает снятое молоко. Голова обрита, еще явственнее проступили бесчисленные веснушки, и такое жалкое у него лицо. Беда… Какая беда стряслась над нами… Он пришел в Черешенки веселым, бойким мальчишкой. Он все паясничал тогда, любил всех удивить, озадачить. А потом он рос, как все. Беззаботный, безобидный, он был, может быть, слабее других, ему труднее давались голод, холод, неустройство. Он мог поймать на приманку чужого куренка, потому что ему невтерпеж был голод… И все-таки, если бы не Велехов… Если б не Велехов, не пришлось бы мне вот так провожать его. Что там… Я виновата и никто другой…
Он не слышит, но я снова и снова повторяю то, что уже говорила, когда видела его в последний раз.
– Буду писать, – говорила я тогда. – И посылки посылать. Работай хорошо, срок сократят, вернешься.
– А примете?
– Зачем спрашивать? Вернешься домой. К своим.
– Не пишите Семену Афанасьевичу. И Королю не пишите про меня. Обещаете?
– Обещаю.
Он уронил голову мне на колени и заплакал – трудно, безнадежно, виновато.
И вот сейчас мы смотрим друг на друга, он по ту сторону решетки, я по эту.
– Гражданка, сколько раз говорить: тут стоять не разрешается. Если каждый будет тут стоять… – Конвойный давно уже гонит меня, и я в который раз отвечаю: не уйду, пока не отойдет поезд.
– Кто у вас там? Брат?
– Сын.
– Вот воспитают… А потом плачутся. Воспитывали бы как полагается, не плакали бы теперь.
Поезд трогается. Я иду рядом и гляжу в окно. И последнее, что я вижу, – как искажается рыданиями Петино лицо.
…Ночь. Я лежу без сна. И смотрю на белую полосу. Бывают такие минуты в жизни человека. Отчаянные. Когда готов на унижение, на слезы. Когда не можешь собрать сил, чтобы оглядеться. Тогда никто, никто не поможет.
Мне грех жаловаться. У нашего дома много друзей. И судья Корыгина. И председатель Ожгихинского колхоза. И Соколов. Вот и Федотов сказал: приходите, поможем, у нас люди отзывчивые. Мне нужны отзывчивые люди. Очень нужны.
Раза два приходил к нам представитель завода металлоизделий и говорил: зайдите, приготовили вашим ребятам подарок, подбросим башмаков, бельишка. И тогда к ним шел Ступка. Или Петр Алексеевич с Женей Авдеенко. Привезли и башмаки и бельишко. А я не шла. Да и что идти – сейчас уже ничем помочь нельзя. Никакими подарками, никакими башмаками Петю не вернешь.
* * *
Вот и снова осень. Как странно идти по большому городу. Высокие дома. Широкие улицы. Троллейбус, трамвай. Несмотря на ранний час, на улицах людно. После маленького тихого Заозерска Дальнегорск, куда я попадаю не часто, всякий раз кажется мне огромным. Совещание заведующих детскими домами начнется еще не скоро. Я уже позавтракала и теперь брожу по городу.
Вчера заведующий облоно Ильин сказал, что в Дальнегорск прибыл эшелон с детьми-дошкольниками. Надо скорее разобрать малышей но домам.
Он просил всех нас подумать – кто может взять этих ребятишек. Если каждый детдом возьмет десять… двадцать… тридцать человек… Да, он знает, положение у нас у всех трудное. Но как же быть? Это дети из освобожденных районов. Дети-сироты. В каждом городе детские дома брали детей, неужели Дальнегорская область останется в стороне? Он просит, очень просит вас подумать.
Я знаю, мне нельзя взять больше ни одного ребенка. Некуда будет уложить, посадить. Мы не так давно приняли ленинградцев, нам тесно и трудно. И думать нечего. И вдруг я поняла, что со вчерашнего дня ни о чем другом не думаю. Только об этих ребятишках, которых привезли сюда, в Дальнегорск.
Зашла на телефонную станцию, попросила разговор с Заозерском. Усталая, охрипшая девушка сказала, что сможет соединить не раньше чем через три часа. А наше совещание начнется через час.
– Мне по очень важному делу, – сказала я робко.