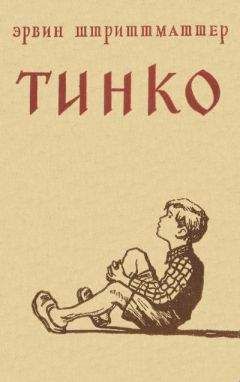Дедушка был против войны. Двадцать лет назад его, ополченца, захватил самый кончик той, первой войны. Но все же, когда по радио объявили, что армия Гитлера разбила Польшу, он сказал: «Глянь, какие мы молодцы!» Когда Франция была побеждена, он однажды обмолвился: «Немец — он, брат, человек всесильный». Два года спустя барон фон Буквиц приказал дедушке явиться в замок и сообщил, что каждая полоска земли ему, барону, теперь самому нужна. Дедушка взмолился: «Мы же такие земли завоевали, а вы тут про какие-то четыре моргена речь заводите!» Дедушка, конечно, души б своей не пожалел, поросенка бы отдал впридачу, только бы ему барон оставил полоску, но фон Буквиц, к тому времени прослышавший, что дедушка из четырех моргенов вересковой степи сделал добрый участок, разговаривал с дедушкой вежливо и спокойно, но в просьбе отказал.
Дедушка потерял покой. Бабушке тогда больше всех доставалось. Дедушка снова стал красным, лазил тайком на чердак и посматривал на небезызвестную фотографию. Она там под балкой была спрятана. Дедушка все ворчал: «Делали бы так, как я говорил, и когда еще говорил! Вместе-то мы куда сильней. Землю бы у него взяли, а вернуть не вернули бы. Посмеялись бы над бароном, и все. Так нет ведь, собаки паршивые, не хотели принимать моего предложения!»
Когда разбитое войско Гитлера бежало с фронта через Мэрцбах в Берлин, дедушка совсем осмелел. Соседи говорили: «Через три дня русские будут здесь», складывали свое добро и бежали кто куда. В селе остались Шепелявая, несколько беззубых стариков, два-три стекольщика и мои дедушка с бабушкой. «Нет, меня не проведешь! Уйди я — они мне сразу корову зарежут», — все твердил дедушка бабушке. Это он говорил про солдат Гитлера, которые вламывались в брошенные дома и искали в них гражданскую одежду. «Уж лучше я корову русским отдам, — добавлял дедушка. — Чему быть, того не миновать. А дуракам, что бегали за Гитлером и войну проиграли, я ее ни за что не оставлю». Бабушка поддакивала ему, что бы он ни говорил и что бы ни делал. Так уж повелось у них с самого начала.
В Мэрцбах вошли советские солдаты. Дедушка все старался не попадаться им на глаза. У него была одна забота — накормить свою корову. А бабушка готовила солдатам еду. Для коровы корма было, слава богу, вдоволь: все поля и луга барона фон Буквица. Дедушка пас свою Мотрину и приговаривал: «Сладка месть, ох, как сладка!» Мотрину он гонял на самые лучшие участки. А придя домой, выскребывал ложкой остатки из бабушкиных котлов и все чего-то ждал. И в конце концов дождался. Однажды дедушку повели к коменданту. Комендант разговаривал с дедушкой через толмача. Когда дедушку спросили, не был ли он нацистом, он с ужасом замахал руками и так затрясся, будто у него вся куртка была полна блох. Дедушке предложили стать бургомистром. А почему бы и нет? Хоть какое-то занятие! А там, поди, и настоящая работенка набежит, сказал себе дедушка, достал с чердака старую фотографию и снова повесил ее в горнице. Теперь все могли видеть: дедушка еще вон когда за справедливость боролся! Мало-помалу жители стали возвращаться. Теперь дедушка снова мог начинать свою борьбу за справедливость. Сколько дедушке пришлось побегать, сколько он кричал, сколько бумаги исписал!
Первым из советского плена вернулся Пауле Вунш. И ему дедушка кое-что рассказал о своей борьбе за справедливость. Только он позабыл, что Пауле Вунш в молодые годы сам был членом того Мэрцбахского союза, которым теперь так любил хвастать дедушка. Но Пауле они тогда выгнали. Пауле был чересчур красным. Получалось даже, что он коммунист. Пауле Вунш подмигнул дедушке левым глазом и сказал: «Помню, помню, ты тогда еще все пытался отнять землю у барона, только как-то у тебя оно странно получалось: шиворот-навыворот».
Дедушка не знал, что ему после таких слов и думать. Старое недоверие к Вуншу снова охватило его. Но теперь Вунш, дедушка и другие мужики и вправду начали делить землю барона фон Буквица.
Так вот, значит, почему дедушка наш гордый такой! Но теперь он уже не бургомистр. Лошадь, которую ему подарил советский комендант, все еще бегает, сто́ит дедушке только замахнуться кнутом. Это наш гнедой мерин. Но язык у него слишком длинный, никак не умещается во рту. Богу и всему миру он вечно язык показывает. Его в деревне так и прозвали: Дразнила.
А дедушка все хвастает перед дядей-солдатом:
— Коня, стало быть, своего приобрели.
Солдат перестает насвистывать и спрашивает:
— Коня, говоришь? Купили или как?
Дедушка делает вид, что не слышит вопроса.
— Во какую фуру мерин тянет, — говорит он и разводит руками, будто собирается охватить всю комнату. — Два других коня и половину такого груза с места не тронули бы, а наш и не оглянется даже!
Дяденька-солдат улыбается и снова закуривает.
— Ты что это? Так и весь надел прокурить недолго, — журит его дедушка.
А солдат только все улыбается.
Бабушка приносит вареные яйца. От них пар идет.
— Не буду я есть яиц!
— Что так, Тинко? — спрашивает бабушка.
— Все яйца надо сдавать на сдаточный пункт, — отвечаю я ей, и мне очень интересно, что теперь скажет солдат.
А он как хлопнет кулаком по столу да заорет:
— Ну и вырастили паренька, нечего сказать!
— Ты что это тут куражишься! — говорит ему дедушка. — Да пусть не ест, коли не хочет. Волнуется небось.
Бабушка начинает беспокоиться: как бы мужики посуду не побили. Она убирает со стола и делает мне украдкой знак. Я бочком, бочком выбираюсь к ней на кухню. Тут я подряд съедаю яйца вареные, яйца жареные и всю картошку. Бабушка стоит рядом, смотрит на меня и озабоченно говорит:
— Лопнешь ты у меня еще.
В комнате дедушка все хвастает:
— Пятьдесят моргенов под плугом, луга и лес не в счет. Вот мы из какого теста сделаны! Это Август-то Краске, я то есть. Хе-хе!
А дядя-солдат, покашливая, замечает:
— Сказал бы лучше: подарена тебе мука, из которой твое тесто замешано.
Дедушка, взглянув на свои руки, отвечает ему:
— Молодо-зелено! А хлопоты, когда в бургомистрах ходил, не в счет разве? Даром я старался, что ли? Другие небось только подхватывали, что им перепадало, а я — всё раздели да никого не обидь — голова раскалывалась. В балансе-то что получается? Уж коли ты не умеешь взять, что тебе само в руки валится, стало быть, ослом на свет родился. А чтоб ты знал, нам и выплачивать за землю приходится.
— Много ли?
— Так себе. Да и что им было делать со всей этой землей? Оставлять незасеянной? Барон удрал. А тут теперь каждая картофелина на учете. Голод-то после войны какой! В балансе оно что получается? Голод он и есть тот вдовец, коего оставила жена-война.
— А нас она всех сиротами оставила, — добавляет бабушка и достает чулки из комода. — Ни батрака, ни батрачки… так иной раз кто подсобит.
Дедушка злится на нее:
— Ты что ж, старая плакальщица, хочешь, чтоб тебе картошка сама в рот прыгала?
Бабушка садится возле печки и грустно глядит на пол. Своими заскорузлыми пальцами, похожими на старые корни, она проводит по грубой холстине фартука.
— Будет тебе подмога! Он вот, — говорит дедушка уже спокойней.
— А ты спросил Эрнста, станет он нам помогать? — отзывается бабушка.
— Спроси да спроси… Ты еще скажешь, чтоб я ему прошение написал. Мне бы в жизни хоть раз так повезло, как ныне молодым! Приехали домой, малость поработали и весь надел получили в наследство. Да никто из них и не знает, что такое забота о земле, о своей полоске… Ведь правду я говорю, Эрнст?
Дядя-солдат не говорит ему ни да, ни нет. Он уставился перед собой. Теперь он молча закуривает новую сигарету.
— Небось десятую уже тянешь! Лучше бы жевал: и деньги в кармане оставались и здоровье б не прокуривал!
Ну и наелся же я! Пузо у меня, как у лягушки, если ее соломкой надуть. В комнату я больше не пойду. Дядю-солдата мне и через щелку видно. А интересно, где он спать ляжет? Только не со мной!
На дворе слышатся шаги. Тило тявкнул раз-другой и умолк. Слышно, как он рвется с цепи. Женский голос успокаивает его. Кто-то осторожно открывает кухонную дверь. Это фрау Клари. Она улыбается мне; я протягиваю ей руку. Она прижимает меня к себе и гладит. Я позволяю. Мне нравится фрау Клари. У нее такие большие глаза. Светло-голубые и ни чуточки не сердитые. Волосы у фрау Клари темно-русые и скручены в большой пучок на затылке. Шея у нее точно из фарфора сделана. Я не знаю, какая была моя мама, только иногда мне смутно что-нибудь мерещится. А когда я смотрю на фрау Клари, я порой чувствую что-то от мамы. На кухню выходит бабушка. Она широко распахивает двери и говорит дяде-солдату:
— Вот тебе твой Тинко!
Я сразу краснею до ушей. Надо же ему видеть, как меня гладит фрау Клари! Фрау Клари тоже стыдится.
— Заходите, заходите, фрау Клари! У нас тут гости нынче, да особые — навсегда к нам приехали, — говорит дедушка.