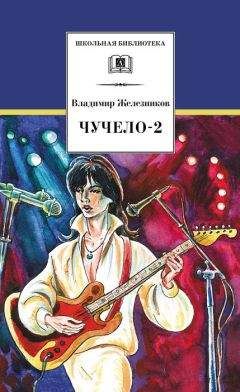что дрожать, дело сделано. Не ты первая, не ты последняя. Не думай про то, что ты раскололась, думай — себя спасла! Государству опять же помогла. У тебя одна жизнь, другой не будет, так что надо ее прожить, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. А по-нашему, спасай свою шкуру до последнего вздоха. Вот какая наука. Ты мне еще спасибо скажешь. И держи язык за зубами. Никому я этого не покажу, если его мамаша, Лизок, себя по-умному будет вести. Тебе сколько?
— Четырнадцать, — отвечает Каланча.
— Давай дружить. — Он что-то там сделал, Каланча громко рассмеялась.
Слышу, Куприянов двигает стулом, понимаю: собирается уходить. Значит, надо мотать отсюда. Осторожно, чтобы ни шороха, ни звука. Сталкиваюсь в коридоре с какой-то женщиной. Она шарахается от меня, провожает взглядом, но ничего не спрашивает.
Узелок туго затягивается, дыхалку перекрывает. Сначала Попугай, теперь Куприянов. Что же будет с Костей, неужели сядет?! На улице остановилась около мотоцикла Куприянова, собираю слюну во рту и выплевываю на сиденье. Запоминаю номер мотоцикла, чтобы подстеречь его в другой раз и проколоть колеса.
Холодно. Колотит. Оглядываюсь — оказывается, я сижу на откосе. С Волги ветер. Уносит гарь и дым из города. Легче дышать. Легче думать. Думаю, как расправиться с Каланчой — убить ее мало. Зверею. Убью ее, твержу, убью подлянку! А что это Куприянов, думаю, про Лизу говорил, намекал на какие-то совместные дела? Вдруг меня обжигает как огнем: действовать надо, надо к Ромашке и к Глазастой, может, они что-нибудь придумают. У Глазастой голова, она соображает.
Бросаюсь домой. Выбегаю из лифта, на ходу выхватываю ключи… и вдруг замечаю — у Лизы дверь приоткрытая. Пугаюсь: что еще случилось? А если вернулся Костя, вот ужас! Дверь как-то подозрительно не закрыта, вроде бы прикрыта, щель маленькая, а не захлопнута. Тихонько открываю, вхожу… Дверь оставляю нараспашку, чтобы легче было убегать, если что не так. Заглядываю в кухню. Вижу, сидит ко мне спиной Лизок.
— Теть Лиз? — окликаю.
Она резко поворачивается, от моего неожиданного появления лицо у нее совсем незащищенное, как бывает у человека, когда он один, сам с собою. В последнее время она здорово выхудилась, мордочка с кулачок, и глаза торчат.
— А-а, — говорит, — это ты, входи. — А сама жует черствую горбушку хлеба.
— Что это у вас дверь не заперта? — спрашиваю.
— Не заперта? — совсем не удивляется. — Не знаю. Забыла захлопнуть. — А сама, не двигаясь, продолжает жевать хлеб.
— Теть Лиз, — спрашиваю, — что это вы хлеб всухомятку?
Молчит, не отвечает; посмотрела на хлеб и снова жует.
— Пойдемте, я вас супом накормлю.
Она опять не отвечает, не слышит. И тут я, дурочка, не выдерживаю, срываюсь и вдруг как закричу:
— Теть Лиз!
Она смотрит на меня с большим удивлением, словно впервые замечает. Ждет.
— Теть Лиз, — говорю. — Я была у Каланчи… Ну, знаете, из нашей команды… самая длинная. Я вам про нее рассказывала. Помните?
Она смотрит, но я по глазам вижу — не включается. Добавляю тихо:
— А там у нее… Куприянов. Тот самый. Ментяра. Он на нее орал, угрожал, и она ему… все-все рассказала.
Включается:
— Что… рассказала?
— Что… Костя угнал машину. — Шепотом произношу. Мы с ней раньше никогда об этом не говорили, но она не удивляется, что я в курсе. Думаю, сейчас взорвется, после моих слов, а она молчит.
Продолжаю:
— Протокол он составил, и Каланча подписала.
— Знаю, — отвечает. — Он только что звонил.
— Ну и что же делать? — спрашиваю в отчаянии.
— Ничего. Куприянов нам поможет. Он мне обещал. — Криво улыбается. — С ним все просто.
А у самой вид перевернутый, точно она стоит на краю пропасти и вот-вот сорвется и насмерть!
— А еще раньше я встретила на улице Попугая, — кричу. Думаю: надо остановиться, надо остановиться, пока не поздно, а не могу. — Наш учитель по автоделу, Попугай — прозвище; так вот он мне говорит, что Судаков, шофер… тоже знает про Костю.
— И про это слышала, — отвечает тем же чужим голосом.
Теперь молчу я. Ничему она, выходит, не удивляется, но это почему-то не успокаивает. Наоборот, беспокоит. Думала, я ей скажу, сразу станет ясно, что делать. А тут все окончательно запутывается.
— А ты никому ни полслова, — предупреждает. — Поняла?
Киваю, что поняла.
Звонит телефон. Лизок уходит в комнату. Плетусь следом. Она снимает трубку. Вдруг вижу — слегка преображается. Милая улыбка появляется на лице. Молчит, слушает, что ей говорят, сияет. Преображается, ее узнать нельзя. Смеется!
Догадываюсь, кто звонит — конечно, судья. Удаляюсь.
Прихожу домой, сразу звоню Глазастой. Она снимает трубку, как всегда, мрачная. Тут я вдруг думаю, что ни разу не видела, как Глазастая улыбается.
— Это ты с матерью разговаривала? — спрашивает.
— Я, — отвечаю.
Она молчит. В другое время я бы пошутила про ребеночка, который у них откуда-то появился, спросила бы, не она ли его тайно родила или что-нибудь в этом духе. Но сегодня мне не до этого, я продолжаю:
— Приходи, надо поговорить. Степаныч во второй. Так что я одна. Ромашку захвати.
Она ничего не расспрашивает, говорит:
— Освобожусь через два часа и приду. — Вешает трубку.
Опять я одна. Жду из последних сил. Достаю пылесос, начинаю убирать квартиру. Шурую, а из головы не выходят наши дела. Когда звонят в дверь, бросаюсь открывать со всех ног, думаю: наконец-то увижу девчонок. Открываю дверь, а они не вдвоем, а втроем — с Каланчой.
Застываю. Раньше думала, сразу брошусь ее убивать, а тут застываю — стою в проходе онемевшая. Вот, думаю, наглая, всех заложила и приперлась.
— Войти можно? — спрашивает Ромашка и отодвигает меня в сторону.
Они проходят в комнату, рассаживаются. Плетусь за ними, что делать с Каланчой, не знаю.
— Курево есть? — нахально спрашивает Каланча.
— Ах ты, падло, курево тебе надо?! — Мне кажется, я кричу, потом понимаю, что губы у меня еле шевелятся, и никто никаких моих слов не слышит.
Почему-то иду в комнату к Степанычу, достаю пачку «Беломора», бросаю Каланче.
— Фу, гадость, — говорит, — а сигарет нету?
— Нету, — отвечаю, — обойдешься, курильщица.
А сама думаю, сейчас все криком выложить или подождать? Вдруг она сама расколется? Надо же ей дать шанс. Одно дело — я скажу, тогда девчонки ее растопчут; другое дело — она сама. Смотрю на нее, как она беломорину раскуривает, руки у нее подрагивают. Значит, про это думает, глаз не поднимает. А я стою, жду!
— Так что там у тебя случилось? — цедит Глазастая.
— Откуда ты знаешь, что случилось? — пугаюсь.
— По твоей улыбочке прочла… Для этого большого ума не требуется.
Хихикаю не