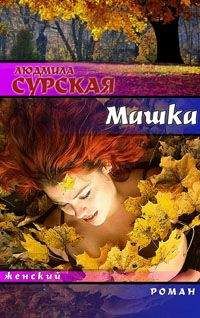– Нет, я сама скажу, ты сам мямля, ничего не можешь.
Это уже была Галка, вернее, Галина-колбаси́на, как называла ее моя старшая дочь. Сказать, что я ее любил, было бы очень большим преувеличением.
– Жора, слушай, я все понимаю, что у вас там с Машкой несчастье. Мы и так делаем, что можем. Но так тоже нельзя, ты нас пойми.
– Не нас, а тебя, – издалека кричал Борька.
Значит, она, как обычно, вытолкала его из кухни и закрыла дверь.
– Послушай, ты и так должен нам десять тысяч рублей. Мы же не можем без денег сидеть. (Месяц назад купили кухонный гарнитур за штуку баксов.) Голодать нам, что ли? (Обычно на завтрак Галина-колбасина делала блинчики с мясом и икрой.) У нас самих такая же трагедия была. Мы ребенка, ты помнишь, потеряли. (У Галки был выкидыш на седьмом месяце беременности.) А Борьку ты с машиной совсем затаскал. Мы и так, считай, без нее остались. Попроси у кого-нибудь еще. Может, очередь установить, мы же у вас с Ириной не одни. Ну, она там как, держится молодцом? Я после выкидыша год в себя приходила. Ну, ладно, – засуетилась Галка, – даю своего.
– Слушай, Жорик, не заводись, сейчас по-тихому все решим.
– Нет, Борь. А ты ей сказал, что деньги одолжил до лета?
– Жор, ты сам знаешь, если больше, чем на три месяца, Галка на процентах настаивает. Зачем ее лишний раз раздражать?
– Борь, мы ребенка не потеряем. И если бы твоя жена кресло новое на пятый этаж не тащила, чтоб на грузчиках сэкономить, может быть, ваш сын бы во втором классе учился. Я тебя прошу вычеркнуть мой телефонный номер из записной книжки, а если позвонишь, я тебе морду набью. Нет, Борь, морду бить не буду, но твоей скажу, что почти каждый раз, что ты возил Ирину с Машкой в больницу, ты ездил к девушке по имени Оксана.
– Жора, ты жестокий человек, недаром тебя моя Галя не любит.
Трубки мы бросили одновременно. Но с машиной надо что-то решать. Снова зазвонил телефон. Наверное, Борька, ведь нельзя же двадцать лет дружбы одним махом разрубить. Оказалось – Вера.
– Папа, я не могу к бабушке ехать, у меня вся шерсть дыбом от температуры стоит и глаза косят. Может, ты меня отвезешь?
– Нет, Вера, машина сломалась, никто никуда не едет. И попросить не у кого.
– Колбасина, конечно, не дала?
– Вер, напомни, почему именно колбасина?
– Ты у меня, отец, совсем старый стал, скоро людей узнавать перестанешь. Помнишь, когда дед Николай умер, все пришли на похороны со своими продуктами, достать ничего было нельзя. Дядя Боря с тетей Галей принесли батон сервелата, от него так еще пахло вкусно. Потом она на кухне все торчала-торчала. И раз, колбасу обратно в сумку. Она меня по голове погладила и в комнату пошла. Еще морду такую сделала, сейчас заплачет. А я колбасу вытащила и спрятала под шкаф. Она перед уходом увидела, что без колбасы осталась. И туда заглянет, и сюда, вертится, вертится. Дядя Боря ей говорит: «Ты чего как на иголках?»
А она ему на ухо: «Эта ихняя уродка у нас колбасу украла». Так и ушли.
Я вспомнил эту историю. Про уродку Вера, правда, не рассказывала. И засмеялся от души.
– Ладно, Вер, если день так безрадостно продолжается, то пойду в магазин. Тебе что купить?
– Аленький цветочек. – И положила трубку.
Думая о том, какие удивительно талантливые дети мои дочери – одна подворовывает колбасу, другая льет на головы молоко, – я и не заметил, что кто-то положил мне на грудь кирпич, и стал медленно надавливать. Этот кто-то определенно сидел на небесах, и, видимо, у него испортилось настроение.
«Эй, мужик, не дави так, у меня дел до черта. Надо Иринке звонить, Машка там, Верка заболела. Ты подожди, я надолго задерживаться не собираюсь, дай только посмотреть, как девчонки вырастут. И убедиться, что Маша вылечится».
Он меня не слушал. И стал толстой веревкой обматывать сердце, с каждым новым витком биться ему становилось труднее. Почему я, успел я подумать. И свет погас.
Свет в ванной почему-то погас. В дверь кто-то звонил изо всех сил и бил в нее ногами. Эта оказалась наша соседка без имени. То есть, наверное, ее как-то зовут, но я не знаю.
– Ты Вера? – спросила она, стоя в проеме двери.
– Да.
– Ты знаешь, Вера, у тебя папа умер. Он у магазина упал, «скорая» быстро приехала, но, по-моему, он умер. Там внизу тетя Катя из сорок пятой квартиры, она боится к тебе идти. Ты одевайся, надо в больницу ехать, в морг, что ли.
Я помню каждую секунду, начиная с этого момента. Сначала я выпила три таблетки от температуры, сразу, чтобы она больше не поднималась. Потом зачем-то вымыла голову. Мне страшно не хотелось выходить из дома и куда-то ехать. Мне хотелось лежать под одеялом, жевать арахис в сахаре и читать с фонариком. Мне хотелось лететь на самолете туда, где нет проклятых дверей, в которые можно так стучать. Мне хотелось, чтобы все вернулось на пять минут назад и время там остановилось. Потом я позвонила Светке и спокойно сказала ей, что у меня умер папа.
Когда я трубку положила, она почему-то сидела рядом и накручивала диск телефона, чтобы позвонить своему отцу, который работает в больнице. При этом я отчетливо видела, что по ее лицу текут слезы в три ручья. Из одного глаза – два ручья, а из другого – один.
Безымянная тетка исчезла, ей на смену пришла тетя Катя, которая гладила меня по мокрой голове и норовила выведать мамин телефон и позвонить. Оказалось, Светкин отец спал дома после дежурства, мы его разбудили, когда уже ревели все втроем: Светка, тетя Катя и я. Потом он зашел нас забирать, и мне все время казалось, что у него лицо залито черничным вареньем. Я упрямо пыталась всучить ему платок. А оказалось потом, что это были усы.
Мы поехали в больницу, и всю дорогу я читала рекламные плакаты, и успела узнать, что «сухая попка сегодня – спокойный сон завтра» и «магазин «Алеся» – товары из Полесья». Рядом с больничной проходной висел большой плакат, на котором пожилая женщина обнимала юношу с розовыми волосами и крупными буквами было выведено: «КОВРЫ и КОЖА». Интересно, кто из них ковер? Светкин отец вышел из машины и куда-то побежал. Его не было очень долго. Но я больше всего хотела, чтобы он совсем не возвращался, тогда бы я думала, что отец… что папа жив.
Светкин папа не шел, не шел, а потом сразу оказался за рулем.
– Вера, – сказал он. Если бы я не сидела между тетей Катей и Светкой, то убежала бы отсюда далеко-далеко. – Вера, папа не умер, он в очень тяжелом состоянии в реанимации, у него была остановка сердца, но он не умер.
– Какие же вы все дураки, – кричала я. В тесной машине было трудно драться с соседями. – Дураки, папа не мог умереть, ему нас надо на ноги ставить, я вообще неблагополучный ребенок, у меня по русскому два в четверти, папа не может умереть. Пустите же меня к папе, мы с ним домой поедем.
Я вылезла из машины и стала вытаскивать отца Светки.
– Давайте, ведите меня к нему.
Мы мчались, спотыкаясь о неубранные доски и скользя на грязных целлофановых пакетах, к больничному корпусу, но дальше коридора меня не пустили. Светкин папа разговаривал с другим врачом, который все хотел увидеть жену пациента. Я слышала слова «лейкоз», «маленький ребенок». Бородатый врач подошел ко мне и сказал, что нужно вызвать маму, и что у папы все очень плохо, и впереди будут решающие сутки. Как знакомую ВВ, меня на несколько секунд пустят в реанимацию, если я пообещаю вести себя тихо.
Я так и не поняла, в каком смысле я знакома с ВВ, пока Светка не сказала, что Виктор Валентинович (ВВ) – это ее отец.
В реанимации было очень холодно, в большом зале с кафельным полом и стенами стояло четыре кровати, рядом с кроватями все пикало, щелкало, и отовсюду слышалось ритмичное шипение. Меня подвели к крайней, на которой лежал маленький, сморщенный старик. Большая зеленая машина с названием «РО» была присоединена к нему через трубку во рту и шипела (раз-два, раз-два).
– Это не мой папа.
ВВ обнял меня за плечо и сказал:
– Твой, Вера, твой.
Мне стало казаться, что мой, только крошечный. Как будто с него сделали копию из гипса, но в три четверти размера. И еще забыли покрасить, потому что он был абсолютно серый. ВВ мне объяcнил, что за папу сейчас дышит аппарат, папа меня не слышит. Но я все равно чуть-чуть потрогала его за руку, не занятую капельницей, и сказала:
– Я тебя люблю.
Мой бесконечный диалог неизвестно с кем продолжился, я снова объяснял, что у меня дети и они без меня не поднимутся. «Старшая дочка у тебя неблагополучная, – согласился он со мной, – в машине дерется». Про машину я не понял. Но решил не заострять внимание. Голос вздохнул: «У нее два в четверти не только по русскому, она у тебя часто врет, и, знаешь, оценки себе в дневнике подрисовывает». Я смело сказал: «Ты же видишь – без меня никак, а про дневник мог бы и раньше как-нибудь шепнуть». Он помолчал, и веревки на сердце ослабли.
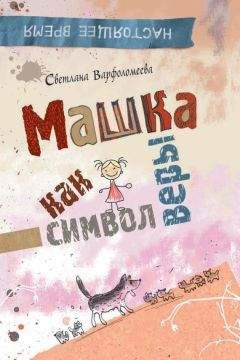

![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)