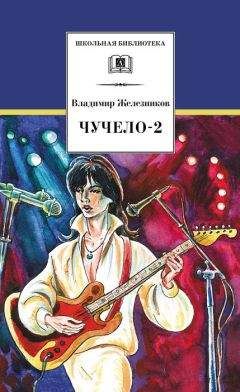я на воле. Правда, он передавал мне приветы через Лизу, если та не врала из жалости. А вчера Лиза объявила, что через месяц Костю выпустят — ей Глебов об этом сообщил. А меня от этой новости прямо в жар бросило, я закричала: «А вы уже написали ему об этом?.. Он знает?» А она ответила, что еще нет, что ждет, когда будет приказ о Костином досрочном освобождении. Тут я обрадовалась и прикусила язык, сразу решила срочно ему написать, вдруг мое письмо придет первым, пока казенная бумага доползет до колонии, и Костя узнает именно от меня, что его освобождают. Вот почему я так спешила с письмом. Лизок сообщила мне об этом на ходу, она торопилась, ей было не до разговора, непривычно намылилась куда-то. Впервые в этом году. Подумала, хорошо, что Степаныча нет, а то бы расстроился. Он привык за эти месяцы, что Лиза всегда сидела дома и каждый вечер заходила к нам. Весь вечер я прождала, но Лизы все не было и не было, и я легла спать, чтобы не привлекать внимания Степаныча к ее отсутствию.
«Самурай, привет! — написала я. — С большой радостью узнала, что тебя выпускают раньше срока! Вот и кончились твои беды! Приезжай побыстрее, все тебя ждут. И ребята из группы, и девчонки, — врала я, потому что наша дружная компания давно рассыпалась, каждый жил своей жизнью, — но особенно, конечно, я!»
Я перестала строчить и несколько раз прочитала то, что написала. Потом почему-то вычеркнула слова «особенно, конечно, я», подумала, а чего про это писать?.. И заторопилась дальше, потому что время подгоняло. «Не хотела я тебя огорчать, но что поделаешь, у нас случилось настоящее горе. Даже не знаю с чего начать?.. Чтобы тебе было понятно, напишу все по порядку, а то у меня путаница в голове, я еще не очухалась от всех новостей.
Только ты не расстраивайся, у нас уже все налаживается.
Итак, начинаю… Сначала у Глазастой умерла мама. Без всякой болезни. Описываю тебе момент смерти со слов Глазастой. Они вместе пришли в ателье, чтобы заказать Глазастой платье ко дню рождения. Ей стукнуло четырнадцать. И у них дома по этому случаю намечалась большая тусовка.
Эх, сейчас ты узнаешь, что учудила эта четырнадцатилетняя.
Перед походом в ателье она поссорилась с матерью: не хотела шить платье, зачем оно ей — она же хиповка. А мать настаивала, потому что это был приказ отца. Он собирался устраивать день рождения и хотел, чтобы „его дочь была на этом празднике в нормальном платье“.
В ателье у матери Глазастой закружилась голова, она хотела присесть в кресло, но промахнулась и опустилась на пол. И тут же умерла от кровоизлияния в мозг. Ты подумай — на виду у всех!
Я первый раз была на похоронах, и они оставили в моей душе неизгладимый след. Я много думаю теперь, какая странная штука жизнь: живет-живет человек, и вдруг умирает. Что меня потрясло, так это то, что умереть может каждый. Раньше я об этом никогда не думала, а теперь все время волнуюсь о Степаныче. Веришь, сижу в училище на занятиях, вдруг вскакиваю, как чумовая, бегу ему звонить — проверяю, жив ли? И про себя думаю, а вдруг я тоже умру. Ведь все мы умрем когда-то?!.. Жалко всех, жалко себя… Хотя про свою смерть я думаю спокойно, даже с радостью. Вот умру, а ты меня пожалеешь. Поцелуешь меня в гробу».
Тут я перестала писать. Подумала, что волнуюсь не только об отце, а и о Лизе, и о Глазастой, а больше всего о Косте. Вспомнила, как просыпаюсь ночью и меня такой страх за него охватывает, что потихоньку плачу в подушку, чтобы Степаныча не разбудить. Расхотелось писать, встала, включила радио, там песенку играли веселую, потанцевала, успокоилась, снова села за письмо.
«В тот день Глазастая позвонила, что у нее умерла мама, и что сегодня похороны, и чтобы я пришла в два часа на Воробьевку, дом восемь, квартира тридцать один, и чтобы я Ромашке и Каланче ничего не говорила. И отключилась.
А я стояла у телефона, ничего не соображала. Потом очухалась, стала собираться, до двух времени оставалось мало. Собираюсь, а сама чувствую — боюсь, тяну время, тяну. Не помню, как села на стул, чтобы надеть кеды… Отрубилась. Сижу, грызу ногти, ничего не соображаю, но все время страшно.
Когда шла к Глазастой, у меня зуб на зуб не попадал. Еле заставила себя войти в подъезд. Только поднялась на второй этаж, меня женщина нагоняет, одетая во все черное. Посмотрела и спросила: „Ты туда? — (Я кивнула.) — Что теперь будет с Коленькой, ума не приложу“. Я решила, что она говорит про отца Глазастой. Я с ним не знакома — молчу. А оказалось, не про отца, нет, ты слушай, слушай, что произошло дальше! Мы пошли по лестнице наверх. Вдруг что-то прошуршало над нами и по волосам меня — чирк! От страха я остолбенела, втянула голову в плечи — боюсь шелохнуться. А женщина говорит, вполне серьезно: „И меня задел… Не пугайся, это ангел смерти летает… За ее душой прилетел… Она ведь святая была…“ Представляешь мое состояние?..
Она обогнала меня и скрылась. А „он“ снова надо мной пролетел, и снова — чирк по волосам! И тут я увидела, что это был обыкновенный голубь, как он влетел в подъезд — не представляю, я влезла на окно, чтобы открыть и выпустить голубя, а там все заржавело и не открывается. Тогда я локтем трах по стеклу — осколки вытащила и ушла. Медленно потащилась дальше, все время почему-то думала о голубе, почему-то было страшно, а еще чем-то непривычным пахло. Решила, это от покойника такой запах, а оказалась елка. Весь коридор в квартире был устлан еловыми ветками, а дверь была открыта настежь.
Вошла, в коридоре паслось несколько человек, но никто не спросил меня, куда и кто. Ну я и прошла в комнату.
Гроб стоял на столе, посередине, но я все время так поворачивалась, чтобы не видеть мертвой. Глазастую усекла сразу. Она сидела у гроба, прямо около головы матери, одетая в джинсы и свитер. Рядом с нею стоял коротко остриженный мальчик. Они оба были ко мне спиной.
Женщина, моя знакомая, подошла к Глазастой, обняла ее, поцеловала и мальчика поцеловала. А я не знала, что делать, боялась к ней подойти. Тут в комнату вошли мужчины и стали поднимать гроб, говоря, что приехал автобус. Я