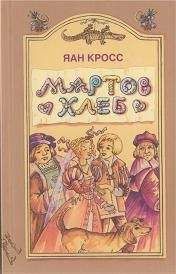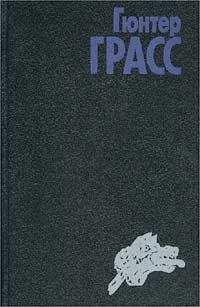— Смешаем и эту шалфейную мазь, — говорит Март, — и сварим этот кларет. И растолчем эти рубины. Пусть только мастер позволит мне прежде в один миг нанизать на веревку еще триста лягушачьих лапок. Чтобы с одним делом покончить.
— Мньмньмньм, — говорит мастер Иохан, — а сколько у тебя сегодня уже нанизано?
— Триста уже на веревке.
— Мньмньм. Только побыстрее.
И Март нанизывает лягушачьи лапки — туда-сюда, туда-сюда! И мастер записывает в аптекарский мемориал невероятно скрипучим гусиным пером: «Anno Domini MCDXLI. Sept. XXI DC pediculi ranularum», что значит: «Год Господний 1441, 21 сентября, шестьсот лягушачьих лапок».
Беспокойная сентябрьская пчела, которую привлекли в аптеку всевозможные удивительные запахи, уже облетела все нарисованные в гирлянде на потолке цветы и, разочарованная, жужжа летает по полкам с горшками, в которых хранится и анис, и корица, и цукаты, и имбирь; теперь она начинает разглядывать плотно закрытые крышки.
В это самое мгновенье на площади перед аптекой послышались быстрые и в то же время шаркающие шаги. Как будто у идущего не было времени как следует надеть на ноги башмаки. Вот шаги уже на лестнице, и дверной колокольчик говорит своим звонким голосом:
— Теретиритрилль![14]
Запыхавшийся клиент входит в аптеку.
Мастер Иохан мгновенно узнает вошедшего, так же как и Март. Потому что даже в таком невероятно большом городе, как Таллинн, в котором почти семь тысяч жителей, домашних слуг ратманов[15] знают в лицо в каждом деловом месте, не говоря уже про аптеку, которая выполняет обязанности почти что докторского дома. Потому что настоящий доктор в этом огромном городе в году Господнем 1441 как раз и не живет. Итак, мастер Иохан спрашивает:
— Ну-ну-ну? Чего это Юрген так торопится, что даже дух перевести не может? Уж не случилось ли чего с ратманом Капле?
— Истинная правда — да, именно с ним самим, — задыхается Юрген, похожий на испуганного тюленя, — еще вчера вечером. У ратмана болит живот. У ратмана крестец дергает. Всё тело ратмана изнывает. И что всего хуже: желчь ударила ратману в голову! Не иначе. Так что он только и делает, что ворчит да брюзжит, и, лежа в кровати, по своему обыкновению, швыряет всё, что под руку попадется, — суповые миски, и пивные кружки, и бревиары,[16] и подсвечники — домочадцам в голову. Значит, конечно же, не госпоже и не барышне, а само собой, мне, и служанкам, и дворнику…
— А нам-то что до всего этого? — спрашивает мастер Иохан, будто не понимая, в чем дело. Марту, во всяком случае, давно уже всё ясно. Да наверно, и мастеру тоже, но почему-то мастер иной раз словно намеренно делает вид, что не понимает.
— Вам?! — восклицает Юрген, и даже рот остается разинутым. — А кому же еще до этого есть дело, Господи помилуй?! Если господин Калле за вами меня послал! Чтобы вы тут же пришли и выяснили, что с ним. И какое лекарство ему требуется. И потом бы это лекарство и составили.
— Ах, вот оно что, — говорит мастер Иохан, будто даже сокрушаясь, что помешали какому-то очень важному его занятию. — Мньмньмньм. Видно уж придется из христианской любви к ближнему свою работу оставить недоделанной. Хотя это может принести нам большой убыток. Ох, какой большой убыток! Пусть только Юрген в толк возьмет: ведь нам приходится в нашей рабочей комнате, или лаборатории, на половине приостановить толчение рубинов! И хоть Юрген нас очень торопит к ратману, а все же следовало бы тончайшим пуховым перышком собрать рубиновую муку, только на это ушло бы ужасно много времени. Так что приходится оставить порошок в ступке, несмотря на то, что он такой дорогой.
А если за это время в комнате сквозить начнет и драгоценная пыль улетит в трубу — что тогда?! Тогда придется нам за счет этой самой трубы записать такую огромную сумму, что Боже упаси!
А с кого же нам в этом случает требовать возмещения убытка? А?
Ну да ладно. Во имя христианской любви к ближнему. Будем уповать на Господа Бога, что на это время он попридержит ветер. А теперь Юрген, наверно, не откажется прополоснуть испуг и спешку глотком кларета. Не так ли?
И вот мастер Иохан уже наливает Юргену из зеленого графина — буль-буль-буль — полный свинцовый бокальчик, а Юрген уже раздувает ноздри от пахнущего гвоздикой и мускатом знаменитого напитка ратушной аптеки, — пьет бокальчик до дна и, причмокивая, говорит:
— Вот это по мне, ей-богу, как глоток свежей воды загнанному в мыло псу. И с вашим кларетом, мастер Иохан, даже нельзя сравнивать все эти трактирные пойла… Вашей марки вино с ними рядом, как вино Спасителя — с бражками язычников.
Но мастер говорит:
— Мартинус, возьми наши инструменты и поспешим!
И вот они идут. Мастер Иохан самый первый — на носу с сине-красными прожилками колеса окуляров в черной оправе, толщиной с гусеницу, — а за ним, по пятам, Март — через плечо на ремне шкатулка с инструментами, — и самым последним шаркает башмаками Юрген с тюленьим лицом. А у Юргена, оттого что хозяин аптеки сразу же с ним пошел и тем самым спасает его голову от ратманских пивных кружек и подсвечников, — у Юргена от всего этого и, особенно, еще после бокальчика кларета так хорошо на душе, что ему от всего сердца хочется немножко поугодничать перед мастером.
— Послушайте, господин мастер, — спрашивает запыхавшийся Юрген, едва поспевая за ними, — как же в этой красивой песенке поется, которую в городе в честь вашей снадобницы[17] сложили? Если только я правильно помню:
Кто наши зелья будет пить,
на свете долго будет жить.[18]
— Ведь так, не правда ли?
— Так. Именно так, — с готовностью подтверждает мастер Иохан и даже сам вместе с Юргеном охотно мурлычет:
На свете долго будет жить!
— А дальше так, — Юрген громко поет:
Берите снадобья у нас
от насморка и всех зараз!
И мастер Иохан важно горланит:
От насморка и всех зараз!
И как только мастер пропел «насморка» и уже собирается перейти к «за-араз» — он вдруг зажмуривает глаза и разевает рот — как будто намеревается заорать и только ждет, пока ему дадут на то разрешение. Он запрокидывает дрожащую голову, очевидно, получает разрешение и заканчивает, но только не «за-араз», а вовсе «за-аа-пч-хии!»
АПЧХИ-И-И!
Так, что освещенные утренним солнышком песочные белые и светло-серые шершавые стены отзываются: аааааа! Так, что желтые и ржаво-красные осенние листья летят через фронтоны домов — пчхи-ии! — и вертятся вокруг зеленых — медных и серых — свинцовых башен. Так, что встречные отскакивают в сторону и говорят:
— Ой-ой-ой-ой, а ведь и мастер Иохан заработал себе насморк!
Но мастер Иохан вытирает нос тыльной стороной руки, потому что у него в самом деле страшный насморк (а до того времени, когда даже такие важные лица, как аптекари, начнут пользоваться носовым платком, пройдет еще сто лет). Да, он вытирает тыльной стороной руки свой насморочный нос и с весьма кислым лицом через плечо говорит Юргену:
— Хватит! Вставь затычку!
Юрген еще за мгновенье до того уже чувствует, будто что-то неладно, но все еще не понимает, что же именно. Во всяком случае, от испуга он совсем замыкает рот.
Так они и маршируют по утреннему городу. Мимо высоких стен, узких окон, дугообразных, как брови, дверей, плитняковых лестниц, мимо плит с гербами и узорами. Вверху, над башенками церквей, огромное синее небо. Внизу, среди конского навоза, булыжников и сора, в веселых утренних лужах синие пятна неба.
А утро такое великолепное и отрадное, что Март испытывает сильный соблазн, ужасно сильный соблазн, попробовать — стерпит или не стерпит мастер, если до конца пропеть ходячую про их снадобницу песенку… И Март тихонько начинает тянуть:
От лихорадки и чумы
честной народ избавим мы!
И поскольку на эти сомнительно звучащие строчки, несмотря на свой насморк, хозяин только разок громче шмыгнул и знай себе шагает, Март уже ни о чем не беспокоится и полным голосом поет:
Пожертвуй талер золотой,
чтоб крепче был из трав настой!
О да, Март мог бы нам кое-что поведать о том, какие едкие, терпкие, горькие, приторные, скользкие, крепкие, сильные, злые у них лекарства. Даже больше, чем самые перелеченные мастером Йоханом больные. Потому что, хотя всем им пришлось принимать в больших количествах различные снадобья, но каждый из них принимал то одно, то другое, то третье. А Март, истинная правда, только из чистого любопытства лизнул языком каждое из этих зелий: ящеричные язычки, порошок мумий и даже муку жженого собачьего кала. Хотя, может быть, и совсем-совсем чуточку.
Какого же все-таки они вкуса? И поэтому теперь он с тем большим удовольствием продолжает петь: