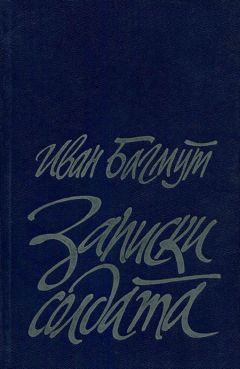«Плохи твои дела, Чабаненко», — говорит.
Я и сам чувствую, что плохи, а тоска такая, что на белый свет не хочется смотреть. Лежу я возле палатки — это было осенью, — греюсь на солнышке и думаю: придется, верно, тебе, Алексей, умереть здесь.
И как подумал я о смерти, блеснула у меня в голове идея.
«Все равно мне умирать, — говорю я командиру батальона. — Пошлите меня, пока я еще могу передвигаться, на фронт. Лучше я там погибну, а перед смертью хоть одну пулю да всажу врагу прямо в сердце!»
«Хорошо, — говорит, — доложу командиру бригады».
Не прошло и двух часов после этого разговора — ан глядь! — идет ко мне сам полковник.
«Что, Чабаненко, опять идея?»
«Чувствую, что умру, потому и прошусь», — говорю я.
«С чего тебе умирать? Выздоровеешь!»
«Нет, — говорю, — чую, что не выздоровлю… Пустите на фронт».
«Ну, черт с тобой! — рассердился полковник. — Иди!» — И пошел прочь.
«Спасибо, товарищ полковник», — а сам, как тяжко мне ни было от боли, весь засиял.
Полковник сделал шагов пять, потом вернулся, подошел ко мне, подал руку, а у самого глаза красные.
«Желаю тебе счастливо воевать! Выздоравливай!»
«Спасибо, товарищ полковник», — благодарю я его, а сердце чуть не выскакивает из груди от радости.
На следующий день сели мы в эшелон и двинулись на запад. И так радостно мне, что исполнилось желание моей души. Хоть не придется пожить на свете, зато умру за отечество, за своих родных. Дотянуть бы только до фронта!
«До фронта дотянешь», — успокоил меня доктор.
«Вот и хорошо! Чего же мне еще?» — думаю, а внутри все смеется оттого, что еду, что успею выпустить по врагу свою снайперскую пулю.
Смотрю, дней через пять или шесть доктор во время очередного осмотра пожимает плечами:
«Ты знаешь, Чабаненко, что ты выздоравливаешь?»
«Да, — говорю, — вроде лучше себя чувствую».
«А ты знаешь, что был безнадежным?»
«Догадывался…»
«А знаешь, что тебе помогло выздороветь?»
«Да верно же лекарства?» — говорю.
«Лекарства? — смеется доктор. — Всем дают эти лекарства, и никому они не помогают, а тебе помогли… В чем же тут дело?.. А кажется мне, вот в чем: очень тебе хотелось доехать до фронта, а когда человек очень чего-нибудь хочет, то, как видишь, и такую болезнь пересиливает… Характер у тебя счастливый: все силы, всю душу вкладываешь в то дело, которое надумал сделать».
За несколько дней исчезли все мои отеки. В вагоне собралось начальство медсанбата. Смотрят на меня доктора как на какое-то чудо.
«Повезло тебе, Чабаненко, — говорит начальник медсанбата, — от такой болезни, как у тебя, не выздоравливают, а ты выздоровел!»
«Он заболел, — говорит мой доктор, — оттого, что его не пускали на фронт, а теперь выздоровел от радости — ведь исполнилось его желание».
«Вон оно что! — удивляется начальник и обращается к другим докторам: — Вот вам сила психики. В учебниках об этом читал, а на практике вижу впервые…»
Ну вот, прибываем мы на фронт, и меня сразу…
Но корреспондент уже не слушал. Он быстро записывал что-то в свой блокнот и, закончив, перебил рассказчика:
— Теперь, Алексей Сидорович, мне все ясно. Как же мы сформулируем выводы? Как вы добились высокого урожая?
— Мм… — Председатель пытливо посмотрел на корреспондента и несмело, даже боязливо проговорил: — Теперь уж и не знаю, как вам сказать… Все же… Как ни верти, а надо начинать с пахоты…
— Опять вы со своей пахотой! — с укором, но без всякого раздражения сказал журналист. — Целеустремленность! Понимаете? Все силы на то, чтобы вырастить высокий урожай! Способность всего себя отдать делу, как тогда, когда вы шли на фронт!
— А-а… Вы с этой стороны?..
— Только с этой! Только с этой, Алексей Сидорович! Сила материализованной идеи! Целеустремленность. Вот откуда высокий урожай!
— Да, это было, было… Но я ведь недосказал. Определили меня снайпером…
Корреспондент слушал, кивал головой, хотя взгляд у него был отсутствующий. Когда часа через полтора Алексей Сидорович кончил свой рассказ о фронтовых делах, журналист без всякой видимой связи с этим рассказом сказал:
— Выходит, дело не в агротехнике, а в том, кто берется за агротехнику.
Председатель колхоза, еще весь в плену воспоминаний о войне, молчал, не понимая, к чему эти слова корреспондента.
— Теперь, когда я ощущаю, вижу, как взялись у вас за работу, расскажите и об агротехнике.
— Значит, все-таки начинать с пахоты? — засмеялся председатель, но через мгновение его лицо стало серьезным. — А вы знаете, что такое пахота? — сказал он, но не тем скучным тоном, каким обычно начинал, а так, словно он вышел в широкую колхозную степь, а за ним дружными рядами идут пахари, весь колхоз, крепкий, сплоченный, полный желания бороться и победить!
1960
Уже рассвело, я кончил писать это неприятное письмо и собирался лечь поспать, как вдруг на улице раздались выстрелы. Я подбежал к окну. Человек в малахае из лисьего хвоста шел посередине мостовой. Время от времени он останавливался, оборачивался, давал несколько выстрелов из маузера и снова шел вперед.
За ним шагах в трехстах бежали, стреляя из револьверов и падая на землю всякий раз, как беглец принимался стрелять, с десяток городовых. Я понимал, что это, очевидно, был хунхуз — китайский разбойник, которого полиция застукала в небольшом пограничном городке… Мне, как офицеру его величества Николая Второго, следовало взять наган и, когда преступник приблизится к моему окну, пристрелить его.
Я вынул из кобуры револьвер, и в моем сознании промелькнула предательская мысль: «Тебе везет, подпоручик». В самом деле, именно в тот день, когда, заглушив голос совести, я написал покаянное письмо, мне представляется случай искупить свою вину делом. (В письме я признал, что совершил страшный грех, сказав несколько слов в защиту солдат-бунтовщиков в наши полку во время революции 1905 года, за что и был сослан в одну из войсковых частей на Дальний Восток. Я просил министра сменить гнев на милость.)
Отворив окно, я ощутил легкую дрожь, то ли от утренней прохлады, повеявшей в комнату, то ли оттого, что мой палец лежал на спуске нагана. «Стрелять человеку в спину!.. Но ведь он хунхуз! Офицер стреляет человеку в спину!..»
И вдруг меня обожгло — в газете будет написано: «Подпоручик помог полиции…» Выходит, внутренняя борьба, пережитая мною ночью, не закончилась…
Выстрелы звучали все ближе и ближе, резко, звонко, а в паузах — спокойные шаги человека в малахае из лисьего хвоста. Эти шаги гремели у меня в ушах сильнее выстрелов.
Несколько случайных прохожих, попавших в эту баталию, прятались за афишной тумбой, из окон высовывались заспанные лица: жители, вытаращив глаза, смотрели на человека, который спокойно шел по улице под пулями полицейских, внезапно останавливался, делал, внимательно целясь, несколько выстрелов и снова продолжал путь. Полицейские, когда хунхуз оборачивался, отбегали назад или прятались за дома, и все же двое из них уже лежали на мостовой недвижимо. Именно то, что китаец, выстрелив, не бежал, а спокойно, даже не спеша, продолжал путь, более всего и пугало преследователей, которые за то время, пока я наблюдал эту сцену, не только не приблизились к уходившему, а, наоборот, все больше отставали.
Хунхуз вот-вот должен был поравняться с моим окном. Я нервно стиснул наган, не спуская глаз со стройной фигуры, которая напряглась, производя очередной выстрел. Отстрелявшись, он повернулся, и я увидел его лицо. Я ожидал найти его испуганным и поразился, увидев лицо величественно спокойное, чуть улыбающееся, прекрасное, как скульптура великого мастера. Я невольно опустил револьвер, не в силах оторвать взгляд от этого необыкновенного, словно озаренного солнцем лица.
Было что-то особенное в этом мраморном лике, и я подыскивал слово, чтобы обозначить, почему же лицо этого человека кажется таким прекрасным. Китаец перезарядил маузер и снова стал стрелять, обратив ко мне тонко очерченный гордый профиль. Внезапно я заметил кровь, капли крови, тонким пунктиром протянувшиеся по мостовой. Я посмотрел на преследуемого и нашел слово, которое искал. Мужество!
Не обычное отсутствие страха, не простое безразличие к опасности, нет, — мужество в высочайшем понимании этого слова. Мужество, идущее от сознания великой цели, железная воля на почве разума, мужество Человека с большой буквы.
Неизвестный направлялся, это было ясно, ко двору железнодорожной станции, где собралось много рабочих-китайцев и где легко спрятаться между вагонами. До ворот осталось каких-нибудь триста — четыреста шагов, и я, кажется, всем своим существом кричал ему: скорее, скорее! А он, даже не отводя голову, когда мимо со свистом пролетали пули, останавливался, целился, стрелял и, повернувшись, не спеша шел дальше.