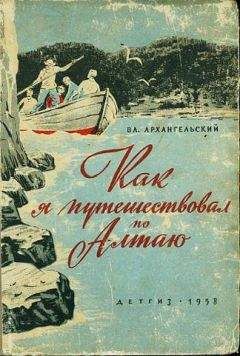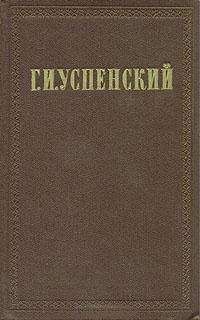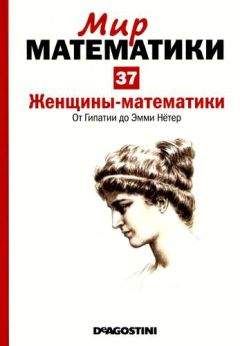Но красавец марал был очень далеко. И Илюшка только дико свистнул в пальцы, как Соловей-разбойник в старых сказках. Олень повёл рогами — и отвернулся, показав нам белую салфетку на крупе.
— Знаешь, что он подумал? — спросил я Илюшку.
— Нет!
— «Что мне до какого-то Илюшки! И пусть себе плывёт этот свистун в лодчонке, крохотной, как ореховая скорлупа. И пусть внимательно следит за белой тряпкой, за парусом. А то он рассвистелся на всю тайгу, а лодку относит к другому берегу». Шкоты на правую! — крикнул я во все лёгкие.
Илюшка ухватился за верёвку, чтобы подтянуть нижний правый конец паруса и повернуть нос лодки влево.
Ночевали мы в заливе Камга. Илюшка наловил рыбы, и у нас была уха и чай с мёдом.
Мы сидели у костра при звёздах, а потом при луне, которая показалась из-за гор. Илюшка сказал:
— Вот и луна повисла на дне неба.
— Как это — на дне?
— Небо, по-нашему, большой перевёрнутый котёл. Так и во всех сказках говорится.
— А ты и сказки знаешь?
— Да.
— Ну расскажи хоть одну. Ночь такая, что только сказки слушать.
Илюшка сел поудобнее, поджав под себя ноги. Чёрные его глаза лукаво поблёскивали.
— Про сороку, что ли? Сядет она на землю клевать и всё головой вертит: клюнет — и оглянется. Почему это так? Не знаете?
— Наверно, боится: у неё кругом враги.
— А вот и нет! Это от павлина!
— Это как же так?
— Точно! От павлина! Давно это было, однако. Решили птицы женить павлина. Он у них начальником был. Кого только ни покажут павлину, всё ему не нравится: синица — мала, кедровка — худа, кукушка — скучна, только и знает своё «ку-ку» да любит яйца в чужие гнёзда класть. Выбрал павлин сороку. Она такая весёлая да развесёлая, знай себе целый день стрекочет.
Женился павлин и решил свою сороку одеть побогаче. Выщипал у себя на груди самые что ни на есть красивые зелёные перья, отдал их жене, чтоб носила на хвосте да на спине. С тех пор и стала сорока чёрная и белая, да ещё зелёная.
Только видит павлин, что жена его по дому ничего не делает: хлеб не печёт, бельё не стирает. Утром улетит куда-то, весь день пропадает, возвращается поздно вечером.
Спросит её павлин рано утром: «Куда спешишь?» — «Куда хочу!» Спросит её павлин вечером: «Где была?» — «Где хотела!»
И задумал павлин проверить, куда это летает его длиннохвостая. Полетел за ней тайно. Видит: села она на помойку возле избы и отбросы клюёт, словно ей дома добра мало.
Озлился павлин и закричал: «И не стыдно тебе? Сейчас же домой лети!» А сорока даже глазом не повела.
Подскочил тут к ней павлин да как стукнет клювом по голове! «Больше, — говорит, — ты мне не жена!»
С тех пор вот сорока, когда в отбросах копается, всё головой вертит и детям наказывает: «Клюньте да оглянитесь, не то павлин прилетит, по голове стукнет!»
— Интересно! У нас нет такой сказки.
— Я и говорил, что из-за павлина, а вы не верили.
Илюшка подумал и задал другой вопрос:
— А почему у бурундука на спине пять чёрных полос? Видели бурундука?
— Видел.
— Почему эти полоски?
— Чтобы он в тайге мог лучше скрываться.
— А вот и нет! Это медведь сделал!
— Ну, ну, расскажи!
— Жил-был медведь, большой и старый. И нашёл он на опушке кедр — толстый, в шесть обхватов.
И семян на нём было мешка два.
Наелся медведь досыта и улёгся под деревом. Под таким-то кедром как хорошо! Солнце припекает, а тут тень. Дождь идёт — под ветвями сухо. Отоспался медведь и решил: «На тот год опять приду сюда осенью. Всем зверям, всем птицам скажу, чтоб семян тут не брали: мой кедр!»
Ну, и сказал. И все в точности его наказ исполнили. А пришёл медведь в другой раз — на кедре ни семечка: неурожай был.
«Эх-ма-а! — вздохнул медведь. — Куда же, однако, податься старому?»
Подумал и пошёл по тайге.
Звери увидали, что медведь не в себе, живот у него с голодухи подтянуло, — и в стороны. Да всё молчком, чтобы не заметил их хозяин тайги. Мало ли что у него на уме, коли он такой голодный!
Один бурундук дурачком оказался. Увидел медведя, до норы не добежал, а уже на всю тайгу крик поднял: «Брык-брык! Сык-сык!»
Медведь остановился да как стукнет себя лапой по башке: «И чего же это я по тайге голодный шатаюсь, когда у этого бурундука семян под землёй на три года припасено! Совсем, старый, из ума выжил! Раскопать!»
И начал копать нору, куда бурундук спрятался. Копал, копал, добрался: целый закром нашёл.
Наелся медведь, добрый стал и сказал: «Где же ты скрылся, хороший хозяин? Вылезай! Я тебя благодарить буду!»
А бурундук затаился. Ни жив ни мёртв, лапками за корень держится, только что дышит, а помалкивает.
Запустил медведь лапу под корень, достал бурундука: «Спасибо, малыш! Слышишь, хозяин тайги тебе спасибо говорит! Да ты хоть улыбнись в ответ!»
А бурундук-то по-медвежьи ни слеза не понимал. Он сидел, глазами хлопал и думал: «Ну, конец мне! Что-то замолчал медведь, сейчас съест!»
Подумал, рванулся из последних сил, вырвался. Только от чёрных когтей медведя остались у него на шкурке те пять тёмных красивых полосок…
Поздно ночью моему сказителю стало не по себе. Оказалось, что он ни разу не ел мёда, да ещё в сотах. И вместе с мёдом наглотался воску. Он ворочался с боку на бок, вздыхал, охал и всё жаловался на боль в желудке.
Пришлось отпаивать Илюшку молоком, которое я достал в избушке лесника. А чуть стало развидняться, мальчишка побежал в кусты, поел какой-то травы, и стало ему легче.
И пока мы собирались в отъезд, передо мной был уже не мальчишка, а маленький старичок, который всё рассказывал про болезни да про лекарства. Водяной перец, гвоздика и пастушья сумка останавливали кровь. Горицвет и кузьмичёва травка применялись от болезней сердца. Белена и дурман успокаивали нервы. А чемерицей и крушиной лечили живот.
— Этак-то ладно, что я про крушину вспомнил! А то бы и сейчас животом мучился, — говорил Илюшка.
Я глядел на этого маленького старичка, и мне даже стало казаться, что сидим мы на такой замечательной полянке, где надо немедленно открывать аптеку. На какую бы травку я ни смотрел, она просто была незаменима в народной медицине.
Но аптеку мы всё-таки не открыли, а погрузили вещи, сели в лодку и поплыли дальше по озеру.
Наше путешествие продолжалось…
Как-то вечером мы сидели с Апсилеем на берегу Телецкого озера.
Заря догорала. Дальние горы казались синими: там лежала дремучая тайга. А горы, что полого спускались к воде, ярко зеленели: их густо закрывали берёзы и лёгкие осинки.
Над нами не вились комары, не жужжали мухи: холодно им в алтайских горах над озером!
Мы сидели и разговаривали про охоту, про медведей. Апсилей был знаменитым таёжным охотником, и его рассказы я мог слушать без конца.
— А между прочим, в прошлом году я только один раз вышел на медведя, да и то по нужде, — сказал старик, набивая табаком маленькую трубочку.
— Что так?
— Дочка с мужем — на лесном кордоне, я — дома, с внучкой. Живём далеко от деревни. Туда, обратно — вот и день прошёл, А с осени до весны в школу ходил. Я удивился.
— Да не обо мне речь, — усмехнулся старик. — Сам-то я давно из годов вышел. Внучку водил, ей-то одной по тайге страшновато. Да и случай у нас вышел прошлой осенью.
— Расскажешь?
Апсилей распалил трубочку, не спеша затянулся. Горьковатый дым табака окутал бронзовое от загара скуластое его лицо. Старик прищурился, вокруг глаз у него легла сетка мелких морщин.
— Рассказать можно. Случай даже по нашим местам такой редкий…
Два года назад внучке Апсилея, маленькой Санук, исполнилось семь лет. И повёл её дедушка в первый класс.
В роду у Апсилея никогда не было учеников. Сам он в молодые годы и не мечтал о грамоте, дочка научилась читать поздно, когда вышла замуж за грамотного лесника. Маленькая Санук была первой школьницей во всём роду, и Апсилей не мог нарадоваться на неё.
Он привёл внучку в класс и все три урока просидел на школьном крыльце со своей неразлучной трубочкой. А по дороге домой всё расспрашивал Санук, что же она делала там так долго.
— Я пять трубок выкурил, а ты всё не идёшь и не идёшь! Десять лет вот так сидеть будешь — ух, какая учёная станешь!
Апсилей водил в школу свою маленькую Санук всю долгую зиму. Потом пришло короткое и жаркое алтайское лето. Девочка подросла, окрепла и стала с осени ходить одна. И хоть была она очень маленькая, но по привычной таёжной тропинке ходила без страха.
Как-то утром отправилась она в школу. Снега в долине ещё не было, но с южных гор, с далёких мои гольских белков, уже дули студёные ветры, а на вершине самой высокой горы — Золотой — уже бушевала злая метель.