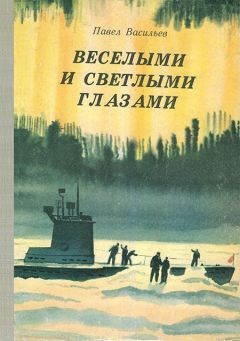Девушка — раз! — и швырнула мне всю охапку. От неожиданности я растерялся и не знал, что с этой воблой делать. А девушка уже скрылась в соседнем сарае.
В гостинице женщина-администратор (голова у нее была повязана тонким платком, из-под платка торчало что-то острое и железное) просмотрела мой паспорт и командировочное удостоверение, затем долго рылась в бумажках на столе и сказала мне:
— Вы родились в рубашке.
— Почему вы так решили? — удивился я.
— Вам достался лучший номер. В нем жил Эджворт Бабкин, сегодня выехал.
Фамилия Эджворта красовалась на большой афише возле Дома культуры. Я уже успел прочитать: «Исполнитель забытых песен и плясун-чечеточник Бабкин».
— А другого ничего нет? — поинтересовался я.
— Нет.
Из окна номера было видно море. Горизонта нет, небо сливается с водой. Все серое. Но я знаю: там, вдалеке, откуда катятся сейчас волны, Арктика. Ледяные поля отсюда совсем недалеко, в каких-нибудь ста километрах. Туда должна уйти подводная лодка, на которой установлена наша аппаратура. Лодка погрузится под воду и пойдет подо льдами. В намеченном районе она должна выбрать полынью среди льдов и всплыть. И вот для того чтобы найти такую полынью, определить ее размеры, и предназначена наша аппаратура.
Эджворт Бабкин в этом городе, очевидно, очень тосковал. На письменном столе у окна валялось несколько штук начатых и недописанных почтовых открыток. Я наугад взял и прочитал одну. Затем заинтересовался и прочитал еще несколько.
«Здравствуй, Мила!!!
Пишу из Рагулина. Не знаю, что писать. Дела идут хорошо. Но почему-то я как дурак. Без тебя мне плохо. Ты моя самая любимая».
Так было написано на одной. А на другой:
«Здравствуй, Наташечка!
Извини меня, что я тебе долго не писал. И вот решил написать. Мы с тобой так расстались, что не успели поговорить. Я надеюсь, что ты меня все-таки не забыла. И я тебя, как видишь, не забыл».
На третьей:
«Здравствуй, Валюшечка!
Ты спрашиваешь, обиделся я или нет? Конечно нет! Валюшечка, сладенькая, очень скучаю по тебе. Не подумай, что притворяюсь. Нет, это действительно. Ты ведь сама знаешь, как я тебя люблю. Да, видел тебя во сне. Будь умницей. Ведь ты у меня самая любимая».
Не знаю, может быть, это писал и не Бабкин, оставил кто-то до него.
Я отодрал бумажки, которыми были проклеены щели в рамах, открыл окно. В комнату сразу же дохнуло студеным ветром, запахами воды.
Я достал воблу, которую мне дала девушка, и лег на подоконник. Мне стало грустно. Грустно по дому, по большому нашему шумному городу, по его многолюдной толпе. Я чувствовал, как здесь мне чего-то не хватает.
Под окнами гостиницы ходили люди, по дощатому настилу тротуара гулко стучали каблуки. И все-таки не хватало чего-то. Я вышел из гостиницы и пошел в сопки. Перелез через одну, другую. И понял, что дальше уходить нельзя, обратное направление угадывалось лишь по телевизионной вышке, единственному здесь ориентиру. А так все сопки похожи одна на другую, одинаковый камень, одинаковый низкорослый кустарник.
Вернувшись в гостиницу, я заглянул в окошко администратора.
— Как устроились? — спросила меня администратор.
— Отлично, — ответил я. — Только скучновато одному.
— Можем кого-нибудь подселить, если хотите.
— Пожалуйста.
— Но цена будет та же.
— Разумеется.
Часа через два ко мне в комнату ввалился широкоплечий дядька. Одной рукой он тащил рюкзак, а другой — большущий чемодан, из которого торчали вещи. Чемодан был фанерный, самодельный, углы обиты жестью.
— Переселяемся! — подмигнул мне дядька, осматривая номер. — А здесь я еще не жил!
Дядька был коренаст, широкоплеч и фигурой напоминал краба: такой же квадратный, крепкий и колченогий.
— Ты сам откуда? — спросил меня дядька. — О, приличная деревуха! Мост там красивый. Наверху мост, поезда ходят, а под мостом — гаражи. Ловко придумано!
Мы с дядькой еще поговорили в таком же духе. Отличный собеседник попался. Но главной отличительной особенности этого дядьки я еще не знал, она проявилась позднее.
Когда по московскому времени был уже поздний вечер, дядька предложил мне:
— Ну что, Кирюха, зададим храповицкого?
Раньше я понимал это как просто лечь спать. Но дядька знал иной, более глубокий смысл.
Уже минуты через три он захрапел. И постепенно, как паровозик, отходящий от платформы, стал все усиливать, все разгонять обороты. Потом, когда заработали все рычаги, раздался такой храп, какого я никогда в жизни не слышал. Дребезжали стаканы на столе, дребезжала люстра, вибрировала моя кровать. Похоже было, что я лежу на жестяной крыше и где-то рядом бушует гроза.
Я не вынес, вскочил и схватил дядьку за плечо, начал трясти.
— В чем дело? — не открывая глаз, спокойно спросил дядька.
— Как в чем дело? Повернитесь на другой бок!
— Радио, — пробормотал дядька.
— Что радио?
— Включи радио.
— А вы повернитесь на другой бок!
— Сейчас, — пообещал он и повернулся.
Минуту было тихо. А потом началось! Мне казалось, что под окнами гостиницы кто-то ездит на мотоцикле без глушителя.
— Кончай! — закричали из соседней комнаты и забарабанили нам в стенку. — Кончай давай! Повернись на другой бок!
Я засунул голову под подушку. Заткнул уши. Наконец вскочил, схватил одеяло и выбежал в коридор.
— Что случилось? — строго спросила дежурная по этажу. Но я только кивнул через плечо. Она поняла все. За мной следом по узкому коридору, громыхая, катилась горная лавина!
Я пристроился в кресле в конце коридора, закутался в одеяло. Как бедный одинокий беженец.
Прощай, мой лучший номер в гостинице, номер, в котором бывал сам Эджворт Бабкин! Прощай, мое теплое гнездышко! Теперь я буду спать на этом простом прокрустовом ложе.
И все-таки я, наверное, действительно родился в рубашке. Меня увидела Вера.
— Ты? И ты спишь в коридоре? Ты, государственный представитель!
Возмущению ее не было предела. Она устроила такой трамтарарам, что через несколько минут за мной прибежала сама администратор гостиницы. И все уладилось. Дядька остался в номере, а меня поместили в бельевую.
Проснулся я рано. Да и надо было рано вставать, в бельевой начинались работы.
Умылся и вышел на улицу. Я знаю наш утренний город, когда по его пустым улицам пробегает одинокое такси, на переездах работают трамвайщики-путейцы, легонько стрекочет мотор машины-дворника. А здесь все было по-иному. Кукарекали петушки. Вдоль мостовой трюхал лохматый черный песик, останавливался и нюхал углы. Я спустился к морю. Вода покачивала просмоленные щепки, что-то шептала. Море ворчало во сне.
Я пошел по городу. Деревянный тротуар гулко скрипел под ногами. На замшелой стене бревенчатого дома висел голубой почтовый ящик.
Мне так грустно стало при виде его.
Я потрогал холодное сырое железо, провел по нему ладонью, заглянул в щель. И вдруг отчетливо понял, чего мне не хватает.
Мне не хватает ее. Мне не хватает Лизы.
И будто увидел ее. И лицо, и глаза, и эти тонкие, плотно сжатые губы.
И вспомнил, как она сказала: «Я не думала, что ты такой». Как она огорчилась из-за меня.
Да, я такой. Я плохой. Я дурной. Такой я есть.
«Корреспонденция выбирается два раза в день», — прочитал я на ящике.
Можно написать ей. Только я не знаю ее адреса, не помню номер дома. Можно написать на институт, на отдел кадров. Взять и написать.
Но что я напишу? Как я здесь живу, какой у меня чудесный номер в гостинице и какой замечательный сосед?
Нет, ничего этого я ей не напишу. Вообще ничего не напишу.
Я достал записную книжку, вырвал листок и написал. Прежде всего адрес.
«На деревню… Лизе.
Среди сосновых и еловых
Густых лесов и синих рек
Ты вспоминаешься мне снова,
Мой самый лучший человек.
Лиза, я, кажется, люблю тебя!»
И бросил листок в ящик.
В этот же день мы пошли на лодку. Перелезли через сопку и спустились в соседнюю бухту. Лодок здесь было много. Сверху они казались небольшими, узкими, темно-серыми, под цвет этого серого неба и моря. И наша лодка была самой маленькой из них. Потому что это была уже устаревшая модель.
Мы показали пропуска дежурному и по трапу перешли с пирса на лодку. Первой — Дралина. Стоявший на верхнем мостике лодки офицер наклонился, недружелюбно посмотрел на Веруню и поморщился: женщина на лодке — дурная примета. Да к тому же еще и идет первой. Потом перешел я. А вот Филютек долго не решался. У трапа не было перил. Между пирсом и покатым бортом лодки в узкой щели покачивалась вода. Филютек заносил ногу на трап, трогал его, как пробуют тонкий, неокрепший лед. Один из матросов, видя его нерешительность, взял Филютека под локоть, чтобы помочь, но Филютек вырвался и побежал.