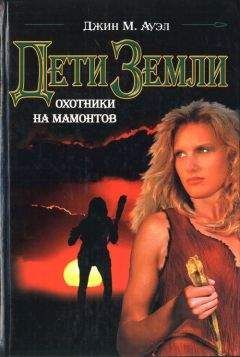хуже самоубийства. Если я оторвусь от корней, от людей, которых люблю, от меня останется лишь оболочка; я превращусь в автомат, лишенный механизма. Я понимал, что, бросив семью, уничтожу и ту любовь, которая во мне еще оставалась, которую я еще не выкинул для того, чтобы освободить место для стыда.
В прошлом месяце в колледже преподаватели литературы, которые догадывались о моих сложных семейных обстоятельствах, начали приглашать меня на званые обеды, где обсуждали критическую теорию, Фуко, феминизм третьей волны и политику неоконсерваторов, вслепую грабивших страну. Как раз тогда президент Буш, почувствовав призыв Господа, пошел искать оружие массового поражения в Ираке, а потому почти на каждом ужине, на котором мне довелось тогда побывать, все резко критиковали его союзников-фундаменталистов.
Мои новые приятели, Чарльз и Доминик, двое из немногочисленных чернокожих студентов, постоянно дразнили меня по поводу того, что баптисты были рабовладельцами и что в моей родословной наверняка полно белых расистов.
«Твои родственники прикрывались Библией, чтобы принижать мой народ», – говорил Чарльз.
«Наверняка Библией они нас и лупили», – добавляла Доминик.
Мысли о том, что Хлопковый король сотворил с предками Чарльза и Доминик, заставили меня стыдиться своей семьи. Сначала я пришел в ужас, когда представил, как мои предки сидят на небесах и судят меня за гомосексуальность, но потом решил, что сам буду судить их за то, что они творили с чернокожими. Меньше чем через год, оказавшись в ЛД, я удивлялся, почему в генограммах отсутствует обозначение таких грехов, как рабовладение и расизм, и почему такую огромную часть истории выкинули прочь.
В гостях у преподавателей за умными разговорами я чувствовал себя одновременно самозванцем и предателем. В нужные моменты я улыбался, шутил по поводу своего воспитания и высмеивал политические убеждения жителей родного города. Однако, возвращаясь домой, всегда чувствовал, что если и не горжусь традициями своей семьи, то по крайней мере благодарен за то, что они мне так привычны. Дома я мог произнести красивую молитву о Божьей благодати, в нужный момент процитировать Писание, обаятельно улыбнуться. Было приятно скользнуть в привычный мир, бормотать банальности, не напрягая мозг. С каждой поездкой границы между двумя мирами размывались, и я все больше боялся того, что произойдет, если я в конечном счете потеряю почву под ногами.
Каждая из сторон предлагала мне одно эффективное решение – сжечь все мосты. Либо порвать со всем привычным и с родней, либо с новой жизнью и новыми идеями. Я больше склонялся ко второму, хотя понимал, что будет сложно забыть чувство прекрасного, которое я испытывал на уроках европейской литературы, когда мы изучали то, что церковь называла пережитками греховного языческого прошлого. Когда мы обсуждали отрывок из «Одиссеи», в котором Одиссей заткнул уши, чтобы заглушить пение сирен, я выпрямился, вытащил воск из собственных ушей, поднял руку и потребовал отвязать меня от мачты.
– Никогда не надоедают, – сказал отец, после того как машина въехала под сень пожелтевших деревьев. – Божьи творенья!
– Да, – ответил я.
Я приложил руки к стеклу и смотрел, как листья скользят в просветах между пальцами.
– Мы найдем выход, – сказал отец. – Я поговорил с братом Стивенсом. У него есть кое-какие идеи.
Брат Стивенс был в нашей церкви пастором. Когда отец решил стать проповедником, он очень с ним сблизился – все свободное время они проводили в кабинете брата Стивенса, расположившись на стульях с индийским узором. И хотя папа еще не был рукоположен в священники, он часто заменял брата Стивенса, когда тот болел.
Я редко видел брата Стивенса после поступления в колледж и был весьма этому рад. Взгляд его близко посаженных глаз меня нервировал. В старших классах по воскресеньям я подключал для него проектор, и мне казалось, что все свое осуждение он направляет против меня, будто я и был Сатаной, о котором он предупреждал прихожан: вот, устроился в специальной будочке, глядит на людей и насмехается над Господом, всласть фантазируя о близнецах Брюэр в первом ряду. Во время проповедей он неизменно говорил о своей блудной дочери, которая усложняла ему жизнь: частые передозировки, бесконечные бойфренды, постоянное упоминание имени Господа всуе и регулярные аресты. Она была типичным ребенком священника, сошедшим с катушек. Брат Стивенс придерживался политики жесткой любви. Он предоставлял дочери право самой решать свои проблемы, хотя и соглашался иногда оплачивать счет за ее лечение.
Я не сомневался, что пастор даст отцу самый суровый совет. Догадывался, что взять меня с собой на тюремное служение – его идея. В церкви часто пытались вытравить гомосексуальность страхом, например приглашали бывших наркоманов, которые бо́льшую часть службы рассказывали жуткие истории, так что прихожане уходили домой в слезах, правда, счастливые, что сами еще живы. Несмотря на плохое предчувствие, я все же верил, что брат Стивенс может оказаться прав. Возможно, я нуждался именно в таком мрачном и суровом предупреждении.
Мы подъехали к главному шоссе, и отец включил поворотник.
– Есть разница между нормальным и ненормальным, – сказал он, и под нами заскрипели тормоза. – Ты всегда был замечательным христианином, просто немного запутался в этих понятиях. Мы найдем тебе подходящего психолога.
По-настоящему нормальным я не чувствовал себя еще со школы, когда в первый раз увидел симпатичного соседа, выгуливавшего собаку. В тот момент мне самому захотелось оказаться на поводке.
– Я не хочу говорить об этом, – ответил я.
– А твой друг, как его там, похоже, готов об этом говорить часами.
Друг. Слово прозвучало непринужденно, без тени иронии, и самодовольно встряло между щелчками поворотника, точно свершившийся факт. Мне захотелось крутануть руль