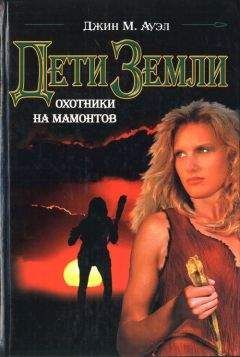в другую сторону, вжать педаль газа в пластиковый пол машины и въехать в стену ближайшего здания.
– Он, наверное, уже всему городу разболтал, – продолжал отец.
Именно поэтому я избегал общественных мест. Дэвид жил в соседнем городе и, скорее всего, уже успел сообщить всем нашим друзьям, что я гей, надеясь обелить при этом себя. От одного такого общего друга я узнал, что Дэвид на академическом испытательном сроке, что уже около месяца его не видели в кампусе и что, скорее всего, он переехал обратно к родителям. Кто знает, может, он все переврал и выставил педофилом меня. Может, наплел, что это я принудил его к сексу. (Мой сосед по комнате, Сэм, решил съехать, и теперь я жил с Чарльзом. Внезапный отъезд Сэма, видимо, был связан как раз с этими слухами.) Все, что оставалось, – это прятаться, ждать, пока схлынет волна возмущения, и стараться найти способ лечения.
– Мне все равно, что он там болтает, – буркнул я. – Он не христианин.
– Я думал, он ходит в церковь, – сказал отец, свернув на шоссе. – Ты вроде говорил, он парень хороший.
– Он ходит в пятидесятническую церковь, – объяснил я, вспоминая здание старой почты, ржавые металлические балки, ярко освещенную сцену и моторное масло. – Это не одно и то же.
Слова выскочили сами собой. Эти обвинения, лицемерные по природе, дались мне легко и заняли место между правдой и ложью, подпитываемые почти одной только яростью. Они опирались на чувство глубокой убежденности, собственной важности. Все вокруг вдруг стало резким: двойные желтые полосы на дороге, одноэтажные торговые центры по бокам, лица, глазеющие из грязных окон. Эти обвинения имели тон и логику моих профессоров на ленивых званых обедах, пускай по содержанию были совсем иными.
Месяцы спустя, на первой встрече с наставниками «Любви в действии», я мгновенно распозна́ю в их неоднозначных словах свои собственные, хотя не пойму их силу до тех пор, пока они не будут использованы против меня.
– Там все говорят языками и практикуют миропомазание, – сказал я. – Это отвратительно.
– Не судите, – произнес отец, и поворотник вскочил на место, едва он повернул руль, – да не судимы будете.
– Не произноси ложного свидетельства, – ответил я.
Больше десяти лет учебы в воскресной школе научили меня не только цитировать Писание почти так же хорошо, как отец, но и обосновывать таким образом свое мнение.
– Почитай отца и мать, – выбросил отец главный козырь, на котором обычно заканчивались все наши споры.
Я скрестил руки на груди. «Как раз этим я и занимаюсь, – пронеслось в голове, – потому я и здесь». Хотя кто знает. Я ведь был там еще отчасти потому, что выхода у меня не было.
Отец свернул на проселочную дорогу, вдоль которой с обеих сторон тянулись клены. По крыше автомобиля зашуршали сухие листья, шорох которых перемежался с легким постукиванием ветвей. Правую ладонь вверх. Повернуть. Повторить. Левую ладонь вверх. Повернуть. Я сфокусировал взгляд на стволе дерева вдалеке и не отводил до тех пор, пока мы не проехали мимо, пока узор его коры не расплылся перед глазами, мгновенно забывшись среди лесного массива.
Когда я учился в средней школе, отец повел меня в самое сердце леса поохотиться. Я раздвигал сосновые ветки в тихом утреннем тумане, изо рта шел пар; мое дыхание смешивалось с дыханием отца, и солнце, пронзая облачка пара, слепило нас. Отец похлопал меня по спине, привлекая мое внимание; я вскинул ружье и прицелился в огромную лань, чуть ниже плеча. Один глаз на прицеле, другой зажмурен; казалось, я наблюдал за ланью несколько минут, хотя в действительности прошло не больше пары секунд.
В тот миг мне показалось, что лань – это воплощение самого леса, с его диким изяществом – непринужденным, неизведанным; часть живого мира, не испытывающего нужды сомневаться в себе. Ей будто было все равно, жива она или мертва. Она просто существовала. И в этом осознании была жизнь. Пуля, которую я в конечном счете выпустил, угодила в тропу перед нами, не долетев до цели нескольких футов. Все оставшееся утро отец убеждал меня, что я попал в лань, что вскоре мы увидим кровавый след – тонкую красную нить, пронизывающую лес, – который приведет нас к жертве. Но я понимал – понимал, что он просто пытается меня утешить.
Сейчас я спрашивал себя: повторится ли эта история? Буду ли я целиться в какую-то недосягаемую правду, спрятавшуюся за стеной толстых черных прутьев решетки окружной тюрьмы? И будет ли отец до конца дней убеждать меня в том, что я попал в цель? Чем глубже мы ныряем в этот лабиринт, тем больше теряемся в нем, теряем друг друга. И проследить, когда все началось, станет невозможным; наше прошлое обернется мифом.
– А с хорошими людьми ты подружился? – спросил отец, проезжая на желтый свет.
Я вспомнил Чарльза и Доминик, студентов музыкального факультета, которые любили петь спиричуэлс в гостиной общежития и уговаривали меня посмотреть фильм «Имитация жизни» [10]. «Окно для белых в мир чернокожих» – так они описали его.
«Если не расплачешься после просмотра – с тобой что-то не так, – говорил Чарльз. – Белые всегда плачут, когда смотрят этот фильм».
Мы с Чарльзом и Доминик быстро стали друзьями, но я боялся рассказывать о них отцу. Хоть он и заявлял, что «не против темнокожих», я не хотел упоминать расу, не хотел выставлять их своими чернокожими друзьями «для галочки», не хотел углубляться в историю семейной хлопковой фабрики из страха разбудить в