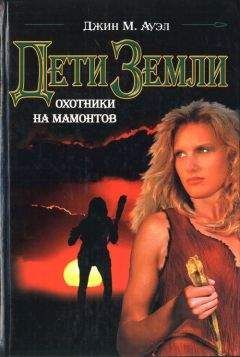Я представлял, что именно так чувствовал себя мальчик, которого изнасиловал Дэвид, – чуждым самому себе и окружающим; и я гадал – и надеялся, – что он нашел кого-то, кто вывел его из лабиринта, в котором Дэвид его растерзал и бросил. В моем подсознании незнакомый мальчик каким-то образом превращался в Брендона. Мне снились кошмары, как этот мальчик вставал с кучи грязных простыней и шел по подвалу в доме Хлои к моему спальному мешку – топ-топ, шлепанье босых ног по холодному бетону, – и в голубом свечении телевизора превращался в Брендона, и все спрашивал меня, правда ли я хочу быть геем, а когда я не отвечал, он спрашивал, правда ли я хочу убить себя, а когда я не отвечал и на это, он ложился рядом на спальный мешок и таращился на меня одним глазом, как Джанет Ли в фильме «Психо», до самого моего пробуждения.
Несмотря на сон, я не решался позвонить Брендону и узнать, как он. Я боялся того, что могу услышать, а еще не был готов к тому, что скажет Хлоя, если возьмет трубку. Я не разговаривал с ней с тех самых пор, как мы расстались, и не хотел услышать осуждение в ее голосе в ответ на новости о том, что со мной творится. Как я вообще смогу объяснить ей то, чего, по большому счету, не происходило?
По дороге в тюрьму я на каждом повороте готовился увидеть Дэвида. Я понимал, что мой страх иррационален, что Дэвиду нечего здесь делать, но одно упоминание его имени будто создавало возможность его появления. Я искал его бледное лицо за окном каждой проезжавшей мимо машины, быстро перескакивая с одного пассажира на другого, чтобы случайно не встретиться взглядом. Учитывая сложившуюся ситуацию, окружная тюрьма казалась самым безопасным местом. Я уже давно понял, что наказывать Дэвида за его поступок никто не собирается. Пастор пресвитерианского колледжа, в котором я учился, посоветовала мне опустить голову пониже и не высовываться, чтобы избежать скандала, ведь, помимо обвинений, никаких доказательств у меня не было.
Опускать голову пониже – Дэвид научил меня этому лучше других, но именно люди, которым я признался позднее, твердили не менять осанку. То, что Дэвид сделал со мной и тем мальчиком, осталось невидимым – никто не хотел об этом говорить. И, обретя способность становиться невидимым, я потерял свой голос.
– Не бойся, – сказал отец, поднимая на меня взгляд. – Они такие же люди, как и все остальные, просто их поймали.
Мы вышли из машины. Я крепко сжимал в руках пачку «Эм-энд-Эмс».
– Я не боюсь, – ответил я, неожиданно акнув. Не ба-аюсь.
Отец нажал кнопку на ключе, и машина пикнула, бессмысленно мигнув фарами. Он оделся нарядно, по случаю: бледные джинсы, белые кроссовки, голубая рубашка навыпуск. Его черные с проседью волосы растрепал ветер, сквозивший меж гор у нас за спиной. Поскольку многие из заключенных были бедны и не имели дохода, отец не хотел надевать ничего дорогого и производить ложное впечатление. Он не был Джимом Баккером [12]. Ему не нужны были деньги – он хотел спасти их души.
Я стоял рядом в черной футболке с логотипом игры «Легенда о Зельде», потертых джинсах и шлепанцах. Я нашел эту футболку накануне вечером на дне старого комода, после того как два часа добирался домой из колледжа. И хотя я уже больше года не играл в видеоигры, «Зельда» показалась мне подходящим выбором. Линк, молчаливый протагонист этой игры, ходил по темницам и решал головоломки. Сейчас я нуждался в нем больше, чем когда-либо.
Я пошел за отцом по черному асфальту. Мы вступили в полутень, отбрасываемую зданием тюрьмы; отец повернул на руке серебряные часы, и стеклышко, сверкнув, отбросило на его щеку белый полумесяц.
– Дикарь скоро приедет, – сказал отец, и полумесяц соскользнул в ямочку на его подбородке.
Дикарь – прозвище, которое отец придумал для Джеффа: тот мыл машины в салоне и входил в отцовский молитвенный круг. С тех пор как папа стал управляющим, мы с Джеффом работали вместе каждое лето – это он научил меня приводить в порядок машины. Благодаря ему я начал подмечать незначительные изъяны в подержанных авто: пыль под крышкой спидометра, крошки между передними сиденьями и приборной панелью, липкую внутреннюю обшивку в карманах задних сидений. Он учил меня, что мелочи – самое важное. Людям приятно, когда мы проявляем внимание и не пропускаем ни пылинки.
Когда отец познакомился с Дикарем, у того были длинные, зачесанные назад сальные волосы, как шерсть у грызуна, а его речь сливалась в один долгий звук. Но даже после того, как отец привел Дикаря к Господу, регулярно молясь вместе с ним на коленях у себя в кабинете, прозвище все же осталось как шутка, хотя теперь дикарем его назвать было сложно.
Мы с ним сработались. Когда мы дежурили вместе, он отвечал за автохимию, а я – за мойку. Если нам попадалось невыводимое пятно, мы по очереди терли его тряпкой, помогая друг другу довести дело до совершенства. В отличие от меня, Дикарь с помощью приобретенных навыков сумел укротить свое прошлое и сам словно очистился от пятен. Он нашел выход из темноты – постригся, прикрыл татуированные руки длинными рукавами, научился выговаривать слова – и теперь вел заключенных по пути, который проделал сам.
Дикарь появился спустя несколько минут; его короткие волосы были аккуратно прилизаны набок гелем.
– Простите за опоздание, – сказал он, пытаясь отдышаться; лицо его было в поту. – Пришлось возвращаться за Библией.
Он помахал перед лицом большой черной Библией короля Иакова, без которой никогда не выходил из дома. «Новообращенный христианин всегда жаждет слова Божьего», – объяснял отец. Насколько я мог судить, Дикарь про мою ситуацию ничего