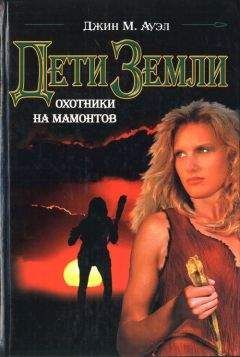не знал. Отец ответил на мои мысли говорящим взглядом: «Да, я привез тебя сюда из-за того, что ты согрешил, но необязательно рассказывать о нашем позоре всем подряд».
– Бог этим утром зря времени не терял, – проговорил Дикарь, задрав голову и поглядев на небо; его кадык ходил ходуном. – Прекрасный выдался денек.
Я проследил за его взглядом. Плот из перистых облаков разлетелся на части над горными вершинами, лениво кувыркаясь в тропосфере. Это был один из тех дней, когда темнота космоса как будто давила на атмосферу и насыщала небо яркими красками, заметными лишь чуткому взгляду.
– Это Господь отдыхает, – сказал отец. – «На седьмой же день Бог отдыхал».
– Но мы отдыхать не будем, – ответил Дикарь, указывая на вход в тюрьму. – Господь сотворил мир, теперь мы должны постараться не разрушить его грехом.
Мы подошли к металлической двери; отец нажал на маленькую красную кнопку на металлической коробке и представился. Потом обернулся к нам и прочистил горло.
– Готовы спасти немного душ? – спросил он.
– Жду с самого утра, – ответил Дикарь.
Где-то над головой зажужжала камера, поворачиваясь в нашу сторону. Мы посмотрели вверх, прямо в оживший объектив. С такого ракурса наши лица образовывали треугольник, вершиной которого был я.
Дверь отворилась с гудением, похожим на звук из какого-то телешоу. Отец толкнул ее. Я прошел в предбанник вслед за ним и Дикарем, где ощутил резкий холод кондиционера и остановился подождать, пока откроется следующая дверь. Мы стояли в металлической коробке, похожей на лифт с маленьким окошком, выходившим в пустую приемную.
– Напомните-ка еще раз, – начал отец, и ему неожиданно вторило эхо. – За какой стих заключенным не полагается конфет?
Я распрямил плечи, прекрасно зная ответ.
– От Иоанна 11: 35.
Этот стих каждый набожный ребенок из баптистской миссионерской церкви «учил» хотя бы раз, потому что в библейской школе на каникулах требовали вызубрить какой-нибудь отрывок из Писания, а этот был самым коротким. Отец не хотел, чтобы заключенные ленились читать Библию и заучивали такой элементарный стих; он хотел, чтобы как можно больше Господних слов осталось у них в памяти. «Иисус прослезился». Эти два простых слова преследовали меня. Я не плакал с того самого вечера, когда мама везла меня из кампуса, с того момента, как я смотрел на высоковольтные провода, нырявшие между бледными звездами (на провода были нанизаны созвездия, названий которых я не знал), и гадал, что скажет отец. Но я не собирался больше плакать. Когда я видел в церкви плачущего человека, мне казалось, что он хочет разорвать кожу на своем лице и показать всем свою иную, секретную сущность. Спустя недели после изнасилования каждый раз, когда мне хотелось заплакать, я сильно щипал себя, чтобы сосредоточиться на боли, а не на слезах. Я не мог больше никому позволить увидеть мою слабость.
Отец обернулся и посмотрел на меня карими глазами, отливавшими зеленым под флуоресцентным освещением. Дверь загудела и открылась, но он не шелохнулся.
– Правильно, – сказал он и поднял руку, чтобы хлопнуть меня по спине. Я невольно вздрогнул, и его рука застыла в воздухе. – Правильно, – повторил он и открыл дверь.
Мы с Дикарем зашли вслед за отцом в приемную. Полицейский с наполовину изжеванной сигаретой, торчавшей из уголка рта, кивнул и открыл еще одну дверь. Тюремщики прекрасно знали отца – все же это была небольшая тюрьма в маленьком озаркском городке, – поэтому никто нас не обыскивал и документы у нас не спрашивал.
– Не подходите к камерам ближе, чем на пять футов, – предупредил отец, – и не обращайте внимания, если они начнут сквернословить и обзываться.
Он предложил мне войти первым. Я кивнул. Я хотел показать, что я такой же смелый, как и он. Хотел доказать, что могу измениться. Откроются двери – людей изобилье.
В коридоре было темно. Хотя, возможно, темным он казался оттого, что мы пришли с яркого солнца.
Неоновые пятна кружились передо мной, образовывая дугу, и лопались на краю тусклых камер. «Фосфены, – так назвала их учительница биологии, когда я заснул на ее уроке. – Ну что, понравилась тебе встреча с фосфенами?» В ту ночь, когда Дэвид заставил меня лечь в его постель, я видел сотни фосфенов: розовые, желтые и оранжевые завитки, как фигуристы, скользили под моими закрытыми веками. «Иногда их называют фильмами для заключенных», – продолжала учительница биологии. Такой феномен возникает, если часами смотреть на пустую стену – я тогда глядел на пустую стену спальни, приставив ножницы к горлу и надеясь, что решение возникнет само собой, что Бог напишет ответ бестелесной рукой, как написал свой ответ перед царем Валтасаром в Ветхом Завете [13].
Я шел близко к стене, то и дело цепляясь плечом о щели между белыми бетонными блоками. Порой за черными металлическими прутьями бледной вспышкой мелькало чье-то улыбающееся лицо. Казалось, все замерли – никто не шевелился, никто не говорил ни слова, кроме редких «Здравствуйте» или «Рад вас видеть». Я прятал руку, в которой держал конфеты, опасаясь, что кто-нибудь набросится на меня, минуя прутья, хотя все вели себя очень вежливо.
Я слышал позади шаги отца, вторившие моим, но не оборачивался, чтобы он не увидел страх в моих глазах. В прошлые выходные, когда я зашел проведать его в салон, он занес кулак, чтобы ударить меня, – то был момент нашего общего страха перед моей сексуальной ориентацией. Я неудачно пошутил при всех – сказал, что отец не хочет выглядеть слабаком перед покупателями, сказал что-то, что мгновенно позабыл, едва