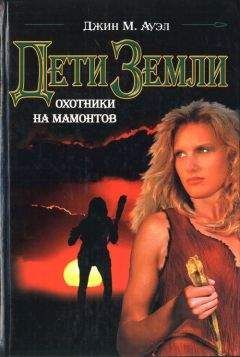в креслах. Когда я уезжал в колледж, отец заставлял меня брать их с собой на случай, если я решу обратить какую-нибудь заблудшую душу. Единственное, на что я решился, – оставить несколько листовок на держателе туалетной бумаги в библиотечном туалете. Выходя из кабинки, я представил, как незнакомцы листают брошюры, оставляя свои отпечатки поверх моих. Было нечто волнующее в том, сколь беззащитны они окажутся в этот момент, сидя со спущенными штанами. Как и отец, я не понаслышке знал, что такое искушение. Поэтому лучшим вариантом было оставить брошюры и идти своим путем. Пройдет время, и все случится само собой.
– Знаешь что, – произнес Дикарь, проведя рукой по несуществующей шевелюре. Он постоянно забывал, что его голову больше не покрывает спутанная копна сальных волос. – Надо бы раздать брошюры, пока мы ждем твоего отца.
– Хорошая идея, – ответил я и сунул брошюры в карман. Слова прозвучали глухо, но настроен я был весьма решительно.
– Хорошая, – эхом отозвался Дикарь. – Пойдем в разные стороны, поговорим с парой заключенных и встретимся здесь.
– Ага.
Он отвернулся. Он ни секунды во мне не сомневался, ведь я был сыном своего отца. Путь простирался прямо передо мной к позолоченному трону Господа. Дикарь, должно быть, верил, что я счастливчик, нашедший короткую тропу.
Я смотрел, как он направляется в сторону выхода. Он свернул в соседний коридор, и я остался один.
Я открыл брошюру на первой странице. «Ты заблудился?» – вопрошала она. На картинке посреди плохо освещенной улицы стоял темноволосый мальчик. А в стороне, прислонившись к фонарному столбу, караулил Сатана в черном плаще. Он был нарисован по-мультяшному злодейским: в руках кривая трость, из-под плаща торчит остроконечный красный хвост. Несмотря на угрожающий вид, Сатана, стоявший в темноте, тоже казался одиноким и всеми брошенным.
Только один год в своей жизни я не чувствовал себя одиноко. Мне тогда было двенадцать. Баптисты считают, что в этом возрасте ты рождаешься заново, принимаешь Иисуса Христа как личного спасителя и готовишься стать христианином на всю жизнь. С того момента прошло много времени, и ощущение ослабло, но я по-прежнему помню всеохватывающую любовь Господа, изливавшуюся откуда-то из глубины солнечного сплетения. Впервые такие чувства возникли у меня, когда я лежал на нижнем ярусе кровати и думал, что не заслуживаю жизни. Днем ранее на службе священник прочел пламенную проповедь о том, что мы должны смиряться перед Господом, должны понять, какими мелочными и злыми становимся, когда покидаем материнскую утробу. В ту ночь, в эхо-камере собственного сознания, куда обычно помещались мои ежедневные заботы, я вопросил: «Любим ли я?» Ответом послужил жар, пробежавший по всему телу; мои конечности задрожали. В то мгновение я радовался прикосновению простыни к моей спине, ощущению прохладного ковра, когда встал на ноги. Я любил каждое лицо, которое видел, каждый изъян, каждую морщинку. Я спрятал лицо в ладонях и заплакал от радости. Я попросил любви, и она была мне дарована. Тогда я поверил, что Бог подарил мне способность любить. Когда я стал старше, это ощущение возвращалось ко мне уже не так легко, и я начал спрашивать себя, не привиделось ли мне все. Моя любовь не прошла проверку на прочность. Со временем любовь или расцветает, или чахнет; становится поводом для размышлений или болезненным воспоминанием.
Я поднял глаза и увидел заключенного, сидевшего на койке напротив. Он наблюдал за мной, скорее всего, слышал наш разговор. Он был пожилым, седые волосы спадали ему на уши; морщины тонкими полумесяцами отпечатались на коже под глазами, а длинные руки свисали между коленями, как увядшие лозы.
– Здравствуйте, – сказал я. – Как вас зовут?
Человек кивнул, не отводя глаз. Я старался не следить за тем, куда ведут его руки, старался не смотреть на небольшую выпуклость между ногами. Было нечто очень знакомое в том, как он сидел на нижней койке. В груди вдруг что-то зашевелилось, какой-то запрятанный за пазухой комок ярости, о котором я давно позабыл.
– Вы откуда? – спросил я.
Дурацкий вопрос: все заключенные были местными. Большинство из них родились и выросли в этом городе.
Человек кашлянул и моргнул.
– Что это у тебя там? – спросил он сухим скрежещущим голосом. – Конфеты?
– Да, – кивнул я и показал пачку «Эм-энд-Эмс». Драже перекатились на одну сторону. – А еще у меня вот что.
Я сунул руку в карман, вытащил смятую пачку брошюр и подошел чуть ближе к решетке, чтобы старик мог рассмотреть их. До само́й решетки я не дотрагивался: мне казалось, что она развалится от одного прикосновения.
Заключенный медленно переводил взгляд с моих рук на лицо, как будто пытался понять, что опаснее. Мы испуганно смотрели друг на друга. Пока он разглядывал меня, я думал о дверях, которые держат его взаперти, о дверях, мешающих ему увидеть, как каждое утро над вершинами гор розовыми лентами поднимается туман. Неудивительно, что отцовские брошюры расходились так бодро: яркие иллюстрации воплощали мечту о внешнем мире.
– Я знаю, что это, – произнес наконец мужчина. – Твой отец уже давно пытается всучить мне хоть одну.
– А, – сказал я.
Я отвел взгляд, но опять невольно посмотрел на его койку – не удержался.
– Твой отец так занятно говорит обо всем этом, – продолжил он. Повисла короткая пауза. – Если я возьму брошюру, дашь мне «Эм-энд-Эмс»?
Глаза постепенно привыкли к полумраку; теперь мне удалось разглядеть слабые попытки заключенного украсить камеру: на стенах висели несколько рисунков, сделанных будто