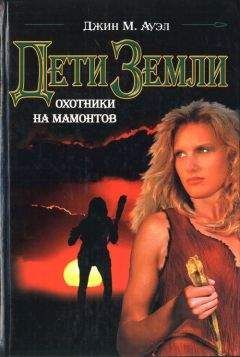Я оглянулся в поисках окна, надеясь увидеть хотя бы крошечную снежинку – крупицу надежды. Мы с родителями повернулись навстречу этой самой надежде, привычно покорные собственной вере, в тот момент, когда я окончательно запутался, и надежда, затянув в плотные сети конверсионной терапии, привела нас в это место.
– Как вы думаете, не кроется ли за этим нечто более серьезное? – спросил психолог, наклонившись вперед. Он сидел напротив меня, смотрел и ждал. – Может, вся эта гей-история как-то связана с вашими родителями? У вас с матерью близкие отношения?
«Ох, значит, я получал любовь лишь взаймы, – подумал я и заглянул в его темные глаза. – И теперь этот человек собирается взыскать с меня долг». Я выпрямился на стуле, дрожа, кивая, улыбаясь, и сказал:
– Да, у меня были очень близкие отношения с матерью, и я стремился перенести эти отношения на каждого человека, с которым знакомился.
И после этого высказывания экс-гея, пока слова еще витали в воздухе, я отдалился от матери. Связь между нами стала менее волшебной, менее таинственной; она получила точное определение и теперь играла важную роль в возникновении моего греха.
В тайной жизни, когда я во второй раз выходил от психолога с толстой брошюрой в руках и новой встречей в календаре, назначенной на неделю перед Рождеством, на улице не было снега и ничто не смягчало моих шагов. В следующие несколько месяцев снег так и не выпал. Мне сказали, что сразу ничего не получится, нужно набраться терпения. Сидя в кинотеатре рядом с друзьями пару месяцев спустя, я уже чувствовал весну, чувствовал, что она неизбежна.
– Снег должен пойти! – настаивал я.
Чарльз и Доминик с улыбкой повернулись ко мне. В этот момент я хотел сказать: «Да, вы моя настоящая семья – семья, которой у меня никогда не было. Вы мне ее заменили». Но эта моя жизнь не была тайной. Рядом не было психолога, хотя он явно уже успел скопировать свои мысли в ту белую массу, в которую превратился мой мозг.
– Куда вы меня затащили? – спросил Чарльз, роясь в коробке попкорна между нами.
Хороший вопрос. Зал был забит седыми бледными стариками. Тут и там сидели редкие представители местной церковной молодежи, которые грудились яркими пятнами; их одинаковые футболки сверкали под светодиодным освещением, как растянутая елочная гирлянда. Еще несколько седых мужчин, похожих на дьяконов, стояли, повернувшись спиной к стенам, завешанным бордовым занавесом. Они не двигались, скрестив перед собой бледные руки; занавес за их спинами слегка колыхался.
Седой старик вновь прочистил горло, и воцарилась тишина.
– У кого-то из вас возникнут вопросы после просмотра этого мощного фильма, – сказал он. – А кто-то будет тронут.
Чарльз бросил попкорнинку в Доминик. Она пролетела по дуге перед моей грудью и приземлилась его сестре на плечо. Доминик брезгливо взяла ее, как будто это был таракан, и, приложив палец к губам, шикнула на нас. «Ничего смешного», – говорил ее взгляд, хотя блеск в глазах предполагал совсем обратное.
Всего за несколько месяцев «Страсти Христовы» стали одним из самых популярных фильмов на свете – в основном благодаря верующим. Я не рассказывал Чарльзу и Доминик, что, как и седой мужчина, который выступал перед нами, мой отец стоял перед людьми и призывал их к спасению, а потом мне названивала мама и сообщала, скольких людей после каждого киносеанса он приводит к Господу.
«Ты не поверишь, – говорила мама с придыханием, что случалось с ней, когда она благоговела перед умением отца вдохновлять других и сама начинала верить (порой по нескольку недель), что его служение и правда творит чудеса. – Ты бы видел. Люди плакали и преклонялись перед ним».
Я никогда не рассказывал Чарльзу и Доминик, куда уезжаю каждые выходные. Мы никогда не обсуждали мою резкую потерю веса и проблемы с успеваемостью. Самое большее, что они могли сказать: «Какой ты тощий!» Мир за пределами нашего крошечного кружка пугал нас и всегда будет пугать, но юношеская самонадеянность позволяла сбросить проблемы, как старую кожу. Главное, что сейчас мы были вместе; все остальное казалось белым шумом.
Когда в наш студгородок пришла зима и затянула льдом треугольные островки травы между корпусами, мы стали проводить все время вместе: смотрели фильмы в общежитии, устроившись теплой ленивой кучей на кровати – ноги-руки врастопырку, – пока холодный ветер сочился сквозь оконные щели. Мы были неразлучны. Общие друзья употребляли слово «жуть», описывая то, как мы переплетались друг с другом, как заканчивали друг за другом предложения и ходили в кафе, только если все проголодаемся (даже наши желудки работали синхронно). Мы не говорили о родителях, которые, если бы и были знакомы, то отнеслись бы друг к другу настороженно – мои родители никогда, ни на дюйм, не приближались к району, где жили родители Чарльза и Доминик. Но нам было все равно. Мы проводили время под защитой двухъярусной койки и светящегося экрана.
– Если что, вы можете поговорить с нами после просмотра, – сказал седовласый старик, указывая на других мужчин, стоящих в проходах. Его палец вычерчивал невидимые линии – так жестикулирует бортпроводник перед взлетом. – Иисус в силах смыть с вас грехи, одеть вас в белые одежды. Он поможет вам уйти сегодня с чистым сердцем.
Я опустил взгляд на свои ступни, в темноту; мне хотелось соскользнуть туда до того, как закончится фильм.
Я не поднимал головы. Мы с Чарльзом и Доминик умели игнорировать все что угодно. Однажды мы зашли в магазин «Джей Си Пенни», чтобы купить Чарльзу джинсы, – и нас чуть не выгнали оттуда: белые сотрудники магазина злобно на нас поглядывали, преследуя по всему залу, завешенному